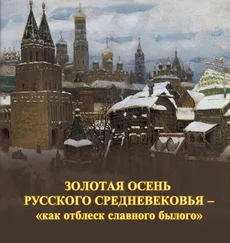Усть-Янск, как и Казачье, основали триста лет назад казаки. Осваивая незнакомую реку, они прежде всего строили опорное поселение близ устья реки, а затем главный укрепленный центр выше по ее течению. Так было на Яне, Индигирке, Колыме. Усть-Янск поставили у границы леса, в центре отличных рыболовных угодий, где дельта начинает ветвиться на бесчисленные внутренние протоки. Против поселка выступала из воды широкая песчаная отмель, удобная для притонения неводов. Поколения обитателей Усть-Янска запасались здесь рыбой на весь год.
Теперь в поселке живут рыбаки и охотники Усть-Янского совхоза — якуты и эвенки. Справа и слева вливаются в Главное русло укромные протоки. Одна из них образовала крошечную гавань у крайних домиков Усть-Янска. К илистой отмели приткнулись рыбацкие лодки, на берегу лежат легкие челны, сушатся неводы, дальше на траве старые баркасы, ржавые корпуса катеров и шаланд, отслуживших свой срок, — наследство рыболовецкого колхоза.
Семен повёл нас к местному учителю. Почти у каждого домика стоят, точно остовы покинутых чумов, пирамиды плавника — топливо на зиму. В половодье Яна несет сухие стволы деревьев, бревна и жерди. Вся река запруживается плывущим лесом. На лодках и челнах жители Усть-Янска вылавливают дары Яны. Стволы за лето просыхают, а зимой не заносятся свирепыми пургами.
Вообще о сибирском плавнике давно пора сложить героическую балладу. Могучие сибирские реки из века в век выносят в море массу дарового топлива и строительного материала. Морские течения разносят его по всему побережью, откладывая местами бесконечными валами и целыми штабелями. Кочевнику рек и ледовитых морей возносили хвалу древние племена зверобоев, поселившиеся на безлесных берегах океана, охотники за песцами, полярные исследователи, новоселы прежних и новых времен, основавшиеся на безлюдных реках Сибири. Плавник дарил человеку Севера жилище и тепло очага…
Навстречу идут легким спортивным шагом две стройные якутские девушки в кедах, тренировочных брюках и штормовках. Пятнадцать лет назад якутские девчурки ходили тут в шкурах.
Учитель, совсем еще молодой якут, и его симпатичная жена пригласили нас погостить до прихода с верховьев Яны очередного речного трамвайчика «Александр Пушкин». Учитель Николай Никифоров окончил школу в Нюрбе на засушливом юге Якутии, затем поступил в Якутское педагогическое училище. Здесь он встретил свою суженую. Окончив училище, они вместе приехали в далекий Усть-Янск учительствовать.
Семен окончил свои командировочные дела в поселке и пригласил на песчаную отмель — закинуть на прощание невод. Вместе с рыбаками, похожими на индейцев, на легких лодках мы Переехали Главную протоку и очутились на песчаной отмели. Песок, подернутый рябью, белеет на солнце. Воздух свеж и прохладен. Мы помогаем тянуть невод, вытаскивать мотню, полную рыбы, заводить невод на лодке, сбрасывать бесконечные его крылья с поплавками. Вечером Семен распрощался с нами и уехал на катере совхоза обратно в Казачье. За несколько дней успели подружиться и расставались с грустью…
Спустя год после плавания по Яне мы встретили Семена в Москве. С Яны его направили в Высшую партийную школу. В Москве он постоянно помогал землякам в разных столичных хлопотах. Кого-то провожал, кого-то встречал. В его комнатке в общежитии находили первый приют приезжие из Якутии. На всех у него хватало времени и внимания. В шутку мы величали Семена полпредом. У него замечательно отзывчивая душа, и это ценили люди…
В семье молодого учителя мы чувствовали себя как дома. Однажды он предложил посмотреть «исторический музей». Николай, улыбаясь, указал на дальний горизонт:
— Вон там — на булгунняхе…
Над макушками редких лиственниц голубоватой тенью поднимался холм с усеченной вершиной. День выдался ясный, солнечный. Восточный ветер разогнал комаров. Вытянувшись цепочкой, мы углубились в редколесье. Лиственницы росли на участках сравнительно сухой тундры. Между ними зеленели осоковые и пушициевые болота. Терпкий и душистый запах багульника кружит голову. Шагаем до мягким пружинистым кочкам, усыпанным спелой и сочной морошкой, похожей на крупную оранжевую малину. Собираем полные горсти сладких ягод и лакомимся вволю.
Иногда лиственницы образуют островки настоящего леса. Здесь, у границы лесотундры, деревья сучковатые, мохнатые. Растут, судя по годовым кольцам, очень медленно. Тонкие стволы не более десяти сантиметров в диаметре уже семидесятилетнего возраста, а совсем крошечные лиственнички в палец толщиной — пятнадцатилетнего.
Читать дальше
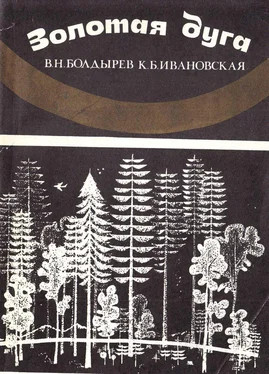

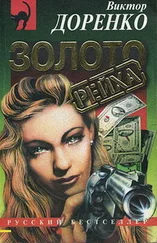
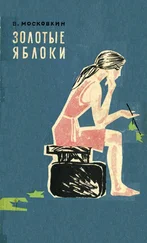
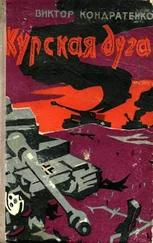
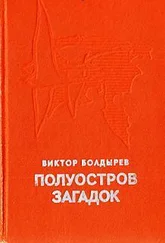
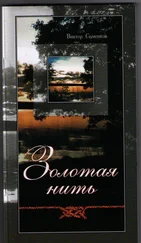
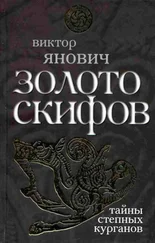
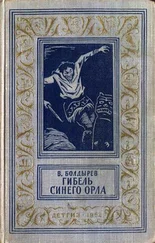
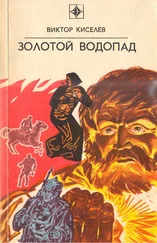
![Виктория Джеймс - Золотая клетка [litres]](/books/423429/viktoriya-dzhejms-zolotaya-kletka-litres-thumb.webp)