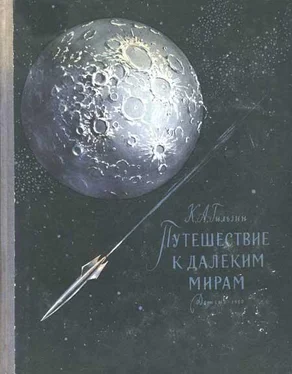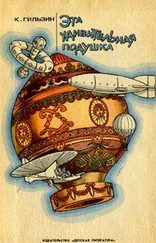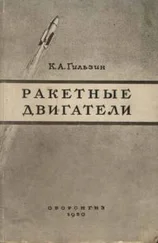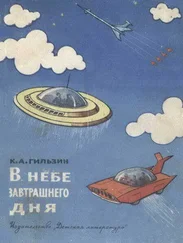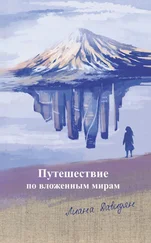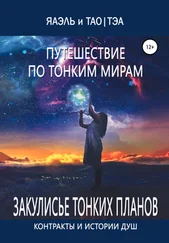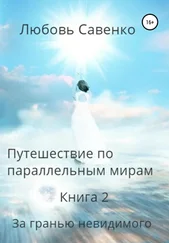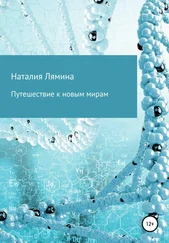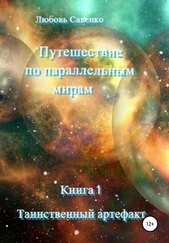Еще в прошлом веке ученый-артиллерист профессор Артиллерийской академии Н. В. Маиевский первым в мире указал на связь этого внезапного увеличения сопротивления со скоростью звука в воздухе, то есть с той скоростью, с которой распространяются в воздухе звуковые волны. В 1902 году вышло в свет блестящее научное исследование тогда еще молодого ученого Сергея Алексеевича Чаплыгина — будущего академика, ученика и друга Николая Егоровича Жуковского. Это исследование заложило основы теории полета со скоростями, приближающимися к скорости звука. Более трети века этот выдающийся труд Чаплыгина оставался, по существу, незамеченным и рассматривался лишь как оригинальное математическое исследование, пока развитие авиации не поставило перед наукой проблемы, оказавшиеся во многом уже решенными этой работой русского ученого.
Теперь уже хорошо известно, что по мере приближения скорости полета самолета к скорости звука в воздухе, равной примерно 340 метрам в секунду, или 1225 километрам в час, [15] У земли, при обычной температуре воздуха. Эта скорость меняется прямо пропорционально корню квадратному из температуры воздуха и, следовательно, с увеличением высоты полета уменьшается.
сопротивление воздуха резко увеличивается. Чем ближе скорость полета к скорости звука, тем больше это дополнительное, так называемое волновое, сопротивление. При этом сам полет становится неустойчивым, самолет начинает вибрировать, управление им нарушается.
Немало пришлось потрудиться советским ученым-аэродинамикам, опиравшимся на идеи Чаплыгина, пока им удалось найти средства уменьшения неприятностей, связанных с полетом, скорость которого приближается к скорости звука. Результатами этих трудов являются и непривычно тонкие крылья скоростных самолетов, [16] Показательно для характеристики диапазона научных интересов Циолковского, что им предложен профиль крыла сверхзвукового самолета, так называемый двусторонний клин (рис. на стр. 39), который, возможно, в будущем найдет широкое применение — в частности, для крыла межпланетного корабля, совершающего планирующую посадку в земной атмосфере.
и необычная форма этих крыльев, придающая современному скоростному самолету вид стремительно летящей стрелы, и многие другие особенности этих машин.
Стало окончательно ясно, что перешагнуть через скорость звука, пробить звуковой барьер с обычным поршневым двигателем не удастся, об этом нечего и мечтать. Авиация обратилась за помощью к реактивной технике.
Это был естественный и логичный шаг, ибо реактивные двигатели наиболее выгодны именно для высоких скоростей полета. В этом легко убедиться на примере хотя бы той же пороховой ракеты.
Представьте себе испытание такой ракеты на стенде. Двигатель работает, порох сгорает; из сопла ракеты с огромной скоростью вырываются раскаленные пороховые газы, но… все это напрасно, никакой полезной работы при этом двигатель не совершает. Действительно, ведь работа есть действие силы на некотором пути, а в данном случае сила имеется: это сила реакции струи вытекающих газов, но путь-то отсутствует — ракета неподвижна. Это все равно, как если бы, скажем, вам было велено передвинуть тяжелый ящик в сторону, метра на два. Сколько бы вы ни трудились, пытаясь сдвинуть этот ящик, вы бы еще полезной работы не совершили. Вот если бы ящик сдвинулся со своего места, то работа была бы совершена, именно работа, равная произведению вашего усилия на пройденный ящиком путь. Пока ящик неподвижен, затрачиваемая вами энергия теряется бесполезно.

Профиль крыла сверхзвукового самолета, предложенный К. Э. Циолковским.
Но вот ракета полетела и мчится со все большей скоростью. Теперь уже работа ракеты совершается, она равна силе реакции струи газов, помноженной на пройденный ракетой путь.
Чем больше скорость полета, тем больше эта полезная работа. Легко сообразить, когда энергия газов будет полностью использована для совершения полезной работы — продвижения ракеты в окружающей среде.
Очевидно, как раз тогда, когда скорость полета ракеты станет в точности равной скорости истечения газов. Действительно, в этом случае газы, вытекающие из ракеты с огромной скоростью, будут относительно окружающего их воздуха совершенно неподвижными. Это и значит, что всю свою кинетическую энергию газы потеряли — она перешла в полезную работу движения ракеты. Правда, чтобы наступил такой момент, пороховая ракета должна лететь с очень большой скоростью — примерно 6–7 тысяч километров в час, но чем ближе скорость полета к этой наивыгоднейшей скорости, тем более эффективной становится работа реактивного двигателя.
Читать дальше