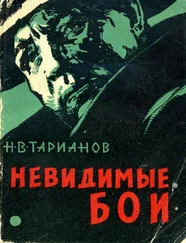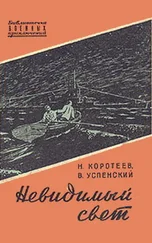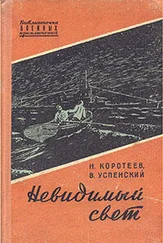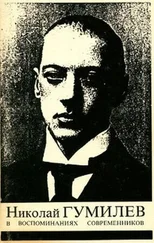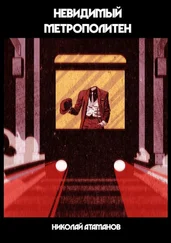Открытие Рентгена вызвало исключительный интерес среди ученых. В течение одного лишь 1896 года вышло больше тысячи статей об X-лучах! Стало модным открывать новые лучи. Лучи Гретца… Лучи Блондло… F-лучи… Все они, как и многие другие, оказались результатом ошибок или недоразумений. Поток статей не ослабевает. Но интересно отметить: в течение 12 лет не появляется ничего принципиально нового об X-лучах (которые теперь почти все называют рентгеновыми), чего не было бы в трех небольших статьях самого Рентгена.
Две счастливые ошибки
20 января 1896 года заседание Парижской академии было особенно многолюдным. Пришли не только те, кому полагалось, но и падкие до сенсаций газетные корреспонденты и просто образованная публика.
Статья Рентгена еще не была опубликована в трудах «Вюрцбургского общества», но слух об открытии новых таинственных лучей распространился с поразительной быстротой, и сообщения о нем уже успели попасть в некоторые газеты. Поэтому известие о том, что на заседании академии ее президент, известный математик Анри Пуанкаре огласит письмо, полученное им лично от профессора Рентгена, привлекло широкое внимание.
Письмо прочли, продемонстрировали фотографии, полученные с помощью X-лучей, началось обсуждение, посыпались вопросы…
Понятно, что разных слушателей интересовали разные вещи. Профессора химии Анри Беккереля, например, больше всего волновал вопрос: из какого именно места катодной трубки выходят X-лучи, где они образуется. (Мы-то с вами помним, конечно, что лучи исходили из светящегося пятнышка на стеклянной стенке, примерно напротив раскаленного катода.)
Интерес профессора Беккереля был не случаен. Он занимался флюоресценцией — свойством некоторых веществ светиться под действием лучей света. Чаще всего свечение бывает зеленоватым, то есть таким же, что и пятнышко на стекле катодной трубки. Конечно, это может быть и случайным совпадением, но вдруг тут кроется новое открытие?
Вероятно, катодные лучи вызывают флюоресценцию стекла, думал Беккерель, а при флюоресценции образуются не только видимые зеленоватые лучи, но и те невидимые, которые открыл немецкий ученый. Но ведь это нетрудно проверить. И особенно легко Беккерелю, он уже несколько лет занимается изучением флюоресценции, и у него в шкафу целая коллекция веществ, которые на солнце сами начинают светиться.
Исследователь не стал откладывать дела в долгий ящик и сразу же приступил к опытам, благо ставить их просто. Беккерель взял фотографическую пластинку и завернул ее в черную бумагу, не пропускающую света. Теперь оставалось только положить на бумагу кусок флюоресцирующего вещества и выставить на солнце.
Какое вещество взять? Немного поколебавшись, Беккерель берет лепешку из уранил-сульфата — вещества, флюоресценция которого особенно интенсивна. Подержав свою нехитрую установку на солнце, ученый удаляется в темную комнату, разворачивает пластинку и кладет в проявитель. И — о чудо! — на пластинке ясно видно пятно такой же формы, как и лепешка из уранила. Выходит, предположение правильно.
Нужно продолжать опыты. Прежде всего повторить уже сделанный, чтобы исключить любые случайности, а потом начать исследовать невидимые лучи, скажем, проверить, через какие вещества они проходят, а через какие — нет.
Но Беккерелю катастрофически не везет. Чтобы вещество флюоресцировало, на него должны падать прямые солнечные лучи. А погода пасмурная. Беккерель заворачивает пластинки в черную бумагу, кладет на них лепешки уранила и ждет тех коротких минут, когда солнце, наконец, покажется из-за туч. Особенно неудачная погода стоит в конце февраля.
Первого марта (этот день вошел в историю!) Беккерель проявляет пластинки. Профессор смотрит на результат. И вдруг — что такое? На одной из пластинок особенно темное пятно, каких до сих пор не бывало. А посреди пятна — светлый крестик. Беккерель смотрит на номер пластинки, сверяет со своими записями, и оказывается, что пластинка вообще не выставлялась на солнце. 26 февраля он положил на завернутую пластинку медный крестик, на него — уранил-сульфат… Но солнце упорно не хотело показываться. Пришлось пластинку убрать в шкаф. И там она (в темноте!) пролежала до первого марта. А проявили ее по ошибке.
Поистине счастливая ошибка! Выходит, чтобы пластинка потемнела, вовсе не нужен солнечный свет. Неужели флюоресцирующее вещество испускает невидимые лучи и в темноте? Беккерель продолжает опыты. Он испытывает не только уранил-сульфат, но и другие вещества. Все правильно: пластинки темнеют и без освещения, но не от всех флюоресцирующих веществ. А от тех, которые не действуют в темноте, ничего не получается и на свету. Значит, флюоресценция тут ни при чем?
Читать дальше