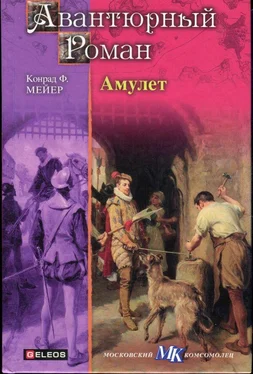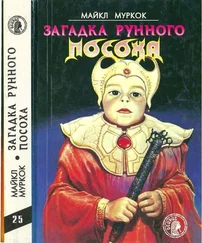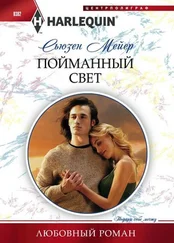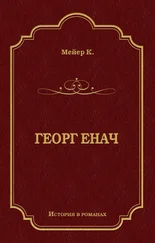Молодой человек все еще сидел на каменной скамье, защищенной навесом. Увидев меня, он с улыбкой поднялся, позвал конюха, помог мне отвязать дорожный мешок и сказал:
— Похоже, вам придется переночевать здесь; но не расстраивайтесь, вы найдете тут прекрасное общество.
— Не сомневаюсь! — ответил я и поклонился.
— Я, конечно, говорю не о себе, — продолжал он, — а об одном почтенном старом господине, которого хозяйка называет парламентским советником, — видимо, он важный сановник — и его дочери или племяннице, несравненной девушке… Отведите господину комнату! — обратился он к вошедшему хозяину. — А вы, земляк, скорее переоденьтесь и не заставляйте нас ждать, ибо ужин уже готов.
— Вы называете меня земляком? — спросил я по-французски, так как и он обращался ко мне на этом языке. — С чего вы это взяли?
— Это видно по вашему облику! — весело ответил он. — Прежде всего, вы немец, а по вашей манере держать себя я узнаю в вас уроженца Берна. Я же ваш верный союзник из Фрибурга, и зовут меня Вильгельм Боккар.
Я последовал за хозяином в отведенную мне комнату, переоделся, а затем спустился в столовую, где меня ждали. Боккар подошел ко мне, взял меня за руку и представил седому господину благородной наружности и стройной девушке в амазонке словами:
— Мой товарищ и земляк… — При этом он взглянул на меня вопросительно.
— …Шадау из Берна, — договорил я.
— Очень рад, — любезно ответил старый господин, — знакомству с молодым гражданином из знаменитого города, которому мои братья по вере в Женеве стольким обязаны. Я парламентский советник Шатильон. Религиозное перемирие позволило мне вернуться в свой родной город Париж.
— Шатильон? — воскликнул я с почтительным изумлением. — Это же фамилия великого адмирала!
— Я не имею чести состоять с ним в родстве, только если в очень далеком; но я знаком и дружен с ним, насколько это позволяет различие сословий и личных заслуг. Однако сядем, господа, суп остывает. Успеем еще поговорить.
Мы уселись за дубовый стол с витыми ножками. С одной стороны сидела молодая девушка, по правую и левую руку от нее было накрыто для советника и Боккара, я же поместился напротив. Когда к скромному десерту был подан искристый напиток из соседней Шампани, сидящие за столом стали разговорчивее.
— Я должен вас похвалить, господа швейцарцы, — начал советник, — за то, что вы сумели примириться в вопросах религии. Это доказывает, что вы обладаете чувством справедливости и здравым смыслом; моя несчастная родина должна бы взять с вас пример. Неужели мы никогда не поймем, что протестант может так же пылко любить свою родину, отважно защищать ее и подчиняться ее законам, как и католик!
— Вы слишком уж нас расхваливаете! — вмешался Боккар. — Действительно, мы, католики и протестанты, кое-как примирились друг с другом, но из-за раздвоения религии почти перестали общаться. В прежние времена мы из Фрибурга часто роднились с бернцами. Теперь же это прекратилось и долголетние связи порваны. В путешествии, — продолжал он с улыбкой, обратившись ко мне, — мы иногда еще помогаем друг другу, но дома едва кланяемся.
Разрешите рассказать вам одну историю. Когда я был в отпуске во Фрибурге — я служу в швейцарских войсках Его Христианнейшего Величества, — как раз проходил «молочный праздник» рядом с имением моего отца, а также пастбищами Кирхбергов из Берна. Кирхберг приехал со своими четырьмя дочерьми — когда мы были еще детьми, я каждый год танцевал с ними на лужайках. Так вот, представьте себе, после первого же танца эти девушки завязали богословский разговор и начали называть меня идолопоклонником и гонителем христиан, потому что на полях битвы при Жарнаке и Монконтуре я выполнил свой долг против гугенотов.
— Все эти разговоры о религии, — заметил советник, — сейчас просто неизбежны. Но почему нельзя вести их со взаимным уважением и приходить к соглашению? Я думаю, что, например, вы, господин Боккар, не бросите меня на костер из-за моей евангелической веры и что вы также осуждаете жестокость, с которой обращаются с кальвинистами на моей бедной родине.
— Можете быть в этом уверены! — отозвался Боккар. — Только вы не должны забывать, что нельзя называть жестокими старинные законы государства и церкви, если они стремятся всеми средствами отстоять свое существование. Что же касается жестокости, то я не знаю более жестокой религии, чем кальвинизм.
— Вы говорите о Сервете? — тихо сказал советник, и лицо его омрачилось.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу