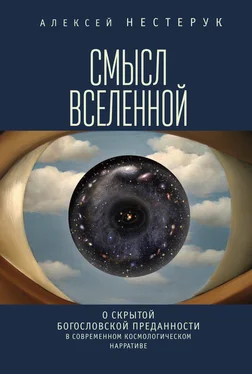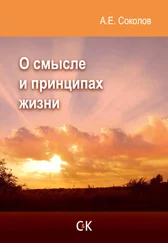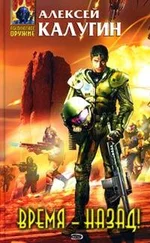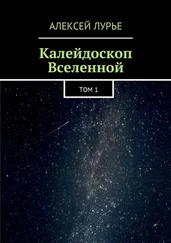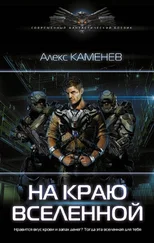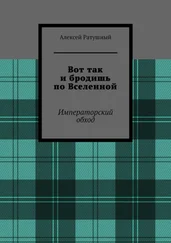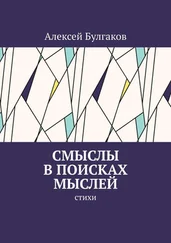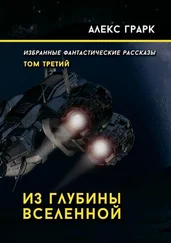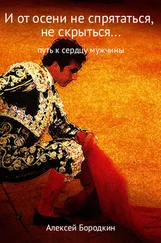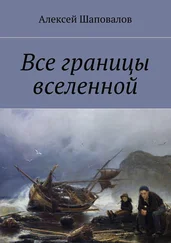Изучение космологии через призму философски и богословски нагруженного разума не вполне гармонирует с современным способом видения реальности в образах научно представимого и осязаемого. В этом смысле подобное исследование не созвучно времени также, как и не созвучна времени сама философия, имеющая дело с аспектами бытия, которые не могут найти немедленного отклика со стороны широкой массы людей. Однако в этом и состоит преимущество философского вопрошания космологии, как автономного функционирования мысли поверх видимой реальности и массового сознания с присущей ему естественной установкой. Скептики и нигилисты, присутствие которых в среде интеллектуалов является знамением нашего времени (с их «позитивно-неопределенным» и сконструированным представлением о реальности, пытающимся навязать предвзятую трактовку исторических событий), могут возразить, поставив обезоруживающий вопрос: «А зачем, для чего? Для чего изучать основания вселенной?», или, соответственно, «Для чего понимать смысл человечности?». Ответ на это приходит из определения философии как любви к мудрости ( philo-sophia ) и к истине ( aletheia ), где любовь выступает определяющей характеристикой человечности. Вопрошать о смысле вселенной означает не просто ее познавать, но быть в сопричастии ей, в любви. Но тогда подвергать сомнению необходимость и ценность анализа познания вселенной значило бы исповедовать нигилизм по отношению к человеку как таковому: зачем нужна человечность человеческого? Это означало бы подвергнуть сомнению ценность всех экзистенциальных привязанностей человека по отношению ко вселенной, которые не подпадали бы под рубрики научного описания.
Философское осмысление космологии, которому посвящена эта книга, не является достигнутым и готовым к употреблению «знанием». Оно скорее принадлежит сфере тех вечных вопрошаний человека о смысле бытия, о которых можно судить лишь в рубриках так называемой «негативной достоверности» ( certitude négative ), аналогичной тому, что имеет место в богословии предания, где невозможно дискурсивно установить, существует Бог или нет (возможно только одно утверждение: определенно , но эта определенность негативная , лишь то, что на вопрос о существовании или несуществовании Бога не может быть дан ответ в рубриках разума). Аналогично этому, когда космология рискует рассуждать о «вселенной в целом», или же, что еще более отважно, о «мультивселенной» ( multiverse – современная версия концепции множественности миров), вопрос о том, существуют ли эти уникальные образования как объекты, доступные научному анализу, остается без ответа. Нам доступна лишь «негативная достоверность» того, что ответ на вопрос «Что?» или «Почему?» в отношении вселенной как целого невозможен.
Соответственно наш подход к космологии, исходящий из контекста вечных ( perennial ) философских вопросов (таких как древнее греческое вопрошание «почему существование, а не не-существование?»), не может оцениваться на основании критериев, присущих самой космологии или просто здравому смыслу. Современная космология делает попытки ответить на вечные вопросы, однако формы мышления, используемые ею, не приспособлены к такого типа вопрошанию. Ибо космология не может раскрыть смысл самой себя; для того, чтобы понимать смысл космологии как разновидности человеческой деятельности вообще, нужен новый тип «вопрошания космологии», в котором мышление выходит за рамки того, о чем говорит сама космология. Здесь необходим, если так можно выразиться, «просветленный» разум, или, как говорил Ницше, «великий разум». С одной стороны этот разум соотнесен с воплощенным состоянием человека во вселенной и представляет космологию как определенный способ освоения мира, как постоянно продолжающееся воплощение человечества во вселенной (очеловечивание вселенной), а с другой стороны, тот же разум соотнесен с божественным образом в человеке, полноту которого человек пытается восстановить и осуществить, делая процесс гуманизации вселенной сопричастием Божественному.
Понимание космологии изнутри философски и богословски артикулируемой первичности экзистенции, то есть человеческой жизни, представляет собой свободное мышление, не ограниченное рамками науки, выходящее за ее пределы и вводящее космологию в круг проблем, связанных с осознанием человеческого состояния вообще. Здесь важно осознать, что подвергая космологию философскому вопрошанию, полагая первичность экзистенции, мы преодолеваем ее кажущуюся нейтральность по отношению к нам как ее творцам, тем самым продвигая наше понимание космологии как космологии в нас самих. Космология оказывается не только системой представлений о нашем космическом обиталище, но содержанием той перенасыщенной интенциональности присутствия вселенной, которая является выражением факта человеческого существования. Физическая космология производит много теорий вселенной, но она не мыслит в философском смысле (ср. с известным утверждением Хайдеггера о том, что наука не мыслит). Действительно, космология не осмысляет себя саму несмотря на попытки узаконить в академическом мире дисциплину под названием «философия космологии». То, что называют «философией космологии», являет собой мета-космологическое, то есть мета-научное, а не философское мышление. Поэтому глубокий философский смысл космологии как вида человеческого творчества во вселенной может быть просветлен лишь при условии осознания принципиального различия и разделения между ее частными теориями и мышлением вообще.
Читать дальше