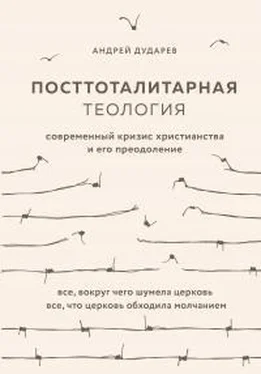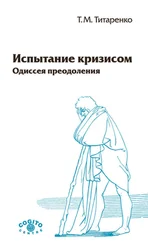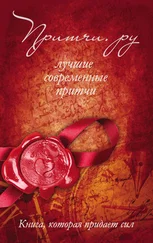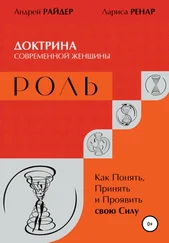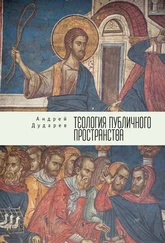В 1831–1832 годах после исцеления и других духовных событий в общее общинное дело активно включается помещик Николай Мотовилов, который скоро становится главным покровителем и питателем сестер (видимо, потому, что средства Михаила Мантурова к тому времени уже иссякли). А старшей на Мельнице назначается Прасковья Степановна.
В 1833 году земная жизнь отца Серафима прекращается. К этому моменту в Мельничной общине уже семьдесят три сестры. «Стойте в свободе»
Одним из главных духовных завещаний отца Серафима сест-рам дивеевских общин был наказ хранить дух мира, евангельской простоты и свободы, который отец Серафим всячески стремился возгревать. Мы бы сейчас назвали такой образ веры христоцентричностью, когда в духовной жизни акцент делается на «жизни по Писанию, а не по преданию» в том смысле, что «предание» во всей его полноте как бы приглушено, и на первый план выступает Писание со всей мощью прямого, а не аллегорического действия… Отец Серафим говорил, что после него не будет у дивеевских сестер отцов. Он не был сторонником институционализации общин, понимал, что институционализация – это новая зависимость и новое возможное рабство. Как и апостол Павел в Послании Галатам, он открывшийся образ новой жизни ставил выше прежних, пусть и традиционных образов. Слова Павла галатам: «стойте в свободе», не дайте никому себя закабалить под разными благовидными предлогами, – вполне применимы и к дивеевской ситуации. Открывшееся новое иночество было как будто новым и по отношению к прежнему, традиционному монашескому иночеству. Не случайно саровские монахи не понимают и не принимают его, ведь это новое иночество обличает и их со всеми их степенями посвящения, неудобовыполнимыми монашескими обетами, суровой аскезой и особой монашеской романтикой… Когда-то, в ранней церкви, монашеское движение было мейн-стримом христианства. Монахи, уходя в пустыни и пещеры, стремились сохранить там евангельский дух и образ жизни, во многом противопоставляя свою жизнь жизни имперской церкви, соединившейся с государством и подчинившейся ему. Но со временем и в самом монашестве вторичные пласты предания закрывают сердцевину евангельского откровения, а потому церковь нуждается в новом иночестве. Еще рано говорить, что она освободилась совсем как от имперского пресса, так и от клерикалистского церковного самосознания.
Характерно, что с 1833 года в Саровском монастыре продолжается линия на дипломатическое уважение отца Серафима, но при этом на его образ жизни рецепция со стороны монахов отсутствует. Отсюда и замалчивание. Вскоре духовная жизнь в мужском Саровском монастыре приходит в упадок. Есть свидетельство 1839 года, когда будущий оптинский старец Амвросий идет за советом к местному отшельнику, который не советует идти в Саров, т. к. «там нет уже опытных старцев, как прежде». В 1842 году игуменом в Сарове становится Исайя (II), последователь Нифонта. Неприятие отца Серафима и его опыта сохраняется.
Овцы среди волков
По сути, дивеевские сестры со всей своей простотой и беззащитностью оставляются, как евангельские овцы среди волков. И волки не замедлили появиться. Начинается долгая и изнурительная борьба с монахом Иоасафом (Иваном Тихоновым Толстошеевым). Казалось бы, неужели простой монах мог оказать столько вреда, сколько ему приписывают? Однако не стоит забывать, что у Иоасафа был влиятельный покровитель – обер-прокурор Святейшего Синода граф Александр Петрович Толстой, перед которым трепетали и епископы. Как уже говорилось, Иоасаф, который хотел быть духовным попечителем сестер, водворяется в Казанской общине, но терпит поражение в Мельничной. Однако он не успокаивается и не оставляет сестер. После долгих, многолетних перипетий в 1861 году Иоасаф добивается учреждения монастыря и низложения настоятельницы. В этот момент Н. А. Мотовилов вмешивается в события, он пишет рапорт митрополиту Филарету, в результате приезжает епископ Назарий, происходит следствие, суд, сестры активно свидетельствуют… В конечном счете Святейший Синод удаляет Иоасафа и восстанавливает снятую Иоасафом прежнюю настоятельницу…
Вряд ли Иоасаф был злодеем в классическом смысле, как может показаться, но он, по-видимому, был тем, кто мог, сам того не понимая, разрушить начинания отца Серафима, поменяв акценты в духовной жизни с Писания на Предание, подчинив более важное в духовной иерархии (связанное с христоцентричностью, о чем мы говорили выше) менее важному. Свидетельство о Царстве
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу