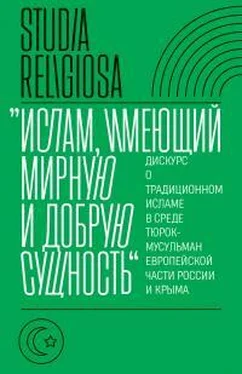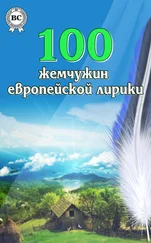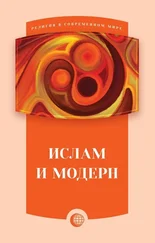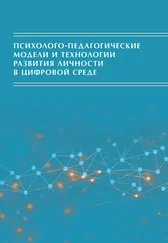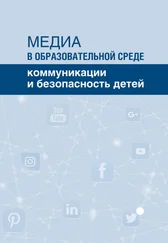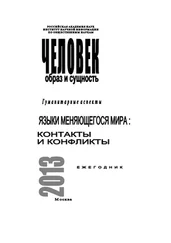Лагерь оппонентов – сторонников мусульманской традиции в регионе – группировался вокруг журнала «Дин ва магишат» («Религия и жизнь») [23]. Если пользоваться классификацией, предложенной Уильямом Шепардом [24], татарские традиционалисты начала XX в. представляли собой традиционалистов – адаптационалистов. Они были готовы поступиться некоторыми своими правами и привилегиями (например, в сфере управления общиной или судебного шариатского производства) в пользу имперских властей, нежели позволить своим оппонентам из лагеря прогрессивно мыслящих мусульман менять средневековые устои своих общин. Согласно исследованиям историка из Татарстана Р. Г. Мухаметшина, главная задача для татарских традиционалистов в вопросе сохранения «традиции» сводилась к необходимости консервации мусульманской религиозной идентичности татар на фоне угрозы христианизации, которая, по их мнению, могла осуществляться через реформированное религиозное «джадидское» образование:
По нашему мнению, сегодня неправомерно давать однозначно отрицательную оценку старометодной школе. Идеологическим содержанием жизни татарского общества являлся ислам, поэтому оно прежде всего было ориентировано на мусульманскую форму народного образования. Несомненно, в условиях колониальной антимусульманской политики царизма главной задачей было выжить, сохраниться как народ, доказав свою историческую состоятельность. Поэтому, с точки зрения консолидации татарского народа в единое целое, школа старого метода играла важнейшую роль, и, несмотря на неминуемые потери в содержании учебного процесса, исторически оправдано признать ее прогрессивной [25].
В этой связи следует отметить, что исторический аналог «традиции» – таклид воспринимался по-разному различными группами татарского общества: одними как однозначно вредоносное явление, которое способствует «сну разума» мусульман и их отставанию от передовых наций [26], а другими – как способ сохранения религиозной и этнической идентичности [27]. В мусульманском праве таклид и по сей день сохраняет свое значение как следование авторитетам прошлого, и обоснованность его присутствия в практике мусульман не оспаривается абсолютным большинством мусульманских правоведов [28]. Историографический очерк по проблеме «традиционного ислама»
Одним из первых западных ученых, давшим определение понятиям «традиционализм» и «неотрадиционализм» в исламе, был американский исламовед Уильям Шепард, который в 1987 г. опубликовал программную статью «Ислам и идеология: К вопросу о классификации» [29]. Некоторые пункты в его определении традиционализма уже упоминались выше, когда мы говорили о феномене татарского традиционализма начала XX в. Между тем он выделяет два типа идеологических систем – «традиционализм» для периода конца XIX – начала XX в. и «неотрадиционализм» – для эпохи второй половины XX в. [30]Объясняя термин «неотрадиционализм» (далее мы будем для большего удобства называть современный традиционализм традиционализмом и не использовать понятие «неотрадиционализм»), он пишет:
…неотрадиционалисты видят положительную сторону местных традиций ислама, которые направлены как против западного пути развития, так и против более унификаторской модели, пропагандируемой радикальными исламистами. Они, вполне очевидно, признают, что некоторые местные обычаи являются неисламскими по происхождению и несовременными, однако всё же продолжают их ценить…
Неотрадиционалисты в большей степени почитают глубину и сложность исторической исламской традиции, которая представлена трудами мусульманских ученых и мудростью суфийских учителей, чем работы современных мусульманских богословов [31].
Схожие формулировки встречаются и в работах последних лет. Анализ статей современных авторов по вопросу об исламском традиционализме свидетельствует о том, что тема поиска определения для феномена «традиционного ислама» возникает прежде всего в западных сообществах, где социум озабочен формированием приемлемых для секулярных сообществ механизмов сосуществования исламских общин. Так, в статье Каспера Матиесена рассматривается феномен «традиционного ислама» в западном англоязычном сообществе, где автор, разбирая наследие двух мусульманских лидеров (Нух Ха Мим Келлера [32]и Абдул Хаким Мурада [33]), пишет:
Традиционный исламский дискурс имеет свои научные исламские истоки в широко распространенном нормативном научном союзе, восходящем к четвертому и пятому векам хиджры, между трезвым суфизмом, суннитским теологическим дискурсом, инициированным ал-Аш‘ари и ал-Матуриди, и к тому времени хорошо консолидированными юридическими школами [ мазхабами ]. Впоследствии доминирующая суннитская исламская парадигма начала формироваться среди ближайших предшественников ал-Газали – ал-Кушайри (ум. 1072) и ал-Худжвири (ум. 1077). При них был сформулирован срединный путь суфизма, который выстроил научные мосты между суфизмом и ведущими правовыми и теологическими течениями: аш‘аризмом/шафи‘измом в случае ал-Кушайри и матуридизмом/ханафизмом в случае ал-Худжвири [34].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу