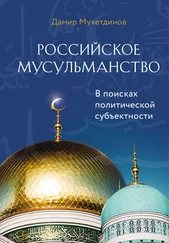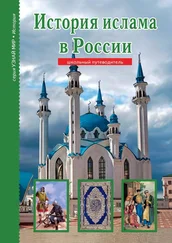Сюжет о религиозном диспуте довольно популярен и, вероятно, проник в летописи из каких-то памятников греческой литературы. Тем не менее у арабского автора XII в. аль-Марвази (1056—1124) есть сведения о прибытии в Хорезм послов от некоего князя русов Владимира (вероятно, именно Владимира Святославича, хотя личное имя рассматривается у арабского автора как титул) с просьбой послать им людей, благодаря которым они смогли бы принять ислам, объясняя, что это будет подвигать их на активные действия, воинственность и походы, и спасет их от бедности, в которую они впали, приняв христианство в 912/913 гг. Правитель Хорезма отправил к ним имама, и, согласно арабскому автору, все они обратились в ислам. Однако эти, безусловно интересные, сведения не только не могут быть как-то датированы, но и не находят подтверждения в других источниках.
Среди историков существуют различные трактовки обоснования выбора веры, сделанного князем Владимиром, однако, по-видимому, основным фактором, обусловившим принятие восточного (ортодоксального) христианства, или православия, стали культурные, социально-политические и геополитические факторы. Во-первых, это относительная простота обрядовой стороны, не требующая введения новых языков, поскольку богослужение могло осуществляться на славянском языке и уже существовала определенная богословская литература, написанная азбукой, разработанной когда-то болгарами Константином (Кириллом) и Мефодием; во-вторых, восточное христианство не предполагало даже номинальной зависимости светского правителя определенного политического образования от какого-либо другого правителя, будь то аббасидский халиф или римский папа, а все священнослужители не составляли сильной оппозиции для правительственной власти, что демонстрировал пример Византии; в-третьих, ислам был давно принят волжскими булгарами, являвшимися политическими соперниками киевских князей, заинтересованных в отсутствии возможности подпасть под какое-либо влияние соседа, христианская же Византия была достаточно далеко.
Тем не менее в сфере социально-политической жизни правители Древней Руси унаследовали политические амбиции Хазарского каганата. Созданный в середине XI в. трактат киевского митрополита Иллариона «Слово о законе и благодати» именует Владимира (980—1015) и его сына Ярослава Мудрого (1019—1054) каганами .
Ярославу принадлежит введение так называемой удельно-лествичной системы, суть которой заключается в том, что вся подвластная территория является общим владением правящего рода, а главенствующим из них признается самый старший с точки зрения первородства (что до каких-то пор совпадало и с возрастным старшинством), при этом земельные владения также делятся по принципу более или менее престижных — старший рода правит в своеобразной столице, идущие следом члены рода получают во владения менее престижные земли, но со смертью старшего следующий претендент переезжает в его владение. Такой принцип наследования старший брат — младший брат — старший племянник характерен для тюркской традиции (ср. в предыдущей главе о волжских булгарах), а подобная смена уделов и вовсе известна в государстве Саманидов.
Такая система более или менее эффективно действовала в пределах не более двух поколений, позже наступало явление, именуемое историками перепроизводством политической элиты . Многочисленность потомков, каждый из которых имел права на правление, нехватка земельных владений для раздачи уделов, нарушение системы наследования вследствие несоответствия генеалогического и возрастного старшинства членов рода, а также наличие князей, умерших, не побывав на великокняжеском престоле, что автоматически лишало этого права и их потомков,— все это предопределило очередной политический кризис. Уже сыновья Ярослава столкнулись с амбициями обойденных племянников, а после смерти последнего из сыновей Ярослава, князя Всеволода, в 1093 г. Русь погружается в усобицы, хотя формальное старшинство за отдельными князьями признается. Любечский съезд 1097 г. закрепляет за каждым из князей и его потомками те территории, которыми он правил на тот момент, переводя, таким образом, удельно-лествичный принцип передачи власти в масштаб отдельных княжеств. Фактически же единая прежде Русь распадается на ряд отдельных владений со своими династиями, лишь формально признававшими какого-нибудь из правителей старшим, но в действительности ведшими свою автономную внутреннюю и внешнюю политику.
Читать дальше
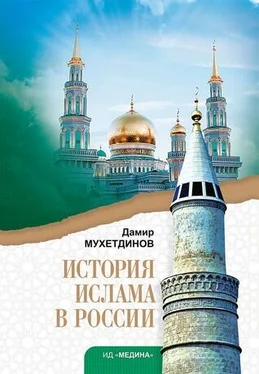
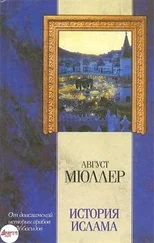
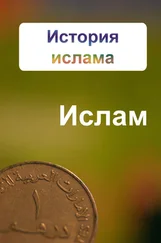
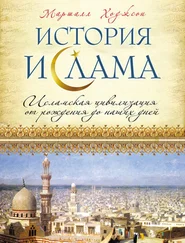
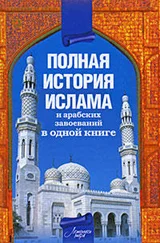
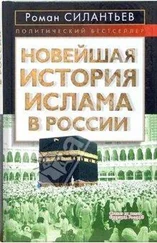

![Дамир Мухетдинов - Трансформация парадигмы перевода Корана на латинский язык - между полемикой и наукой [научная статья]](/books/434732/damir-muhetdinov-transformaciya-paradigmy-perevoda-thumb.webp)