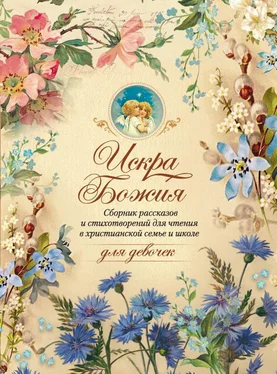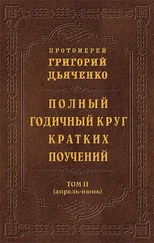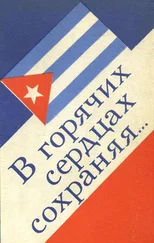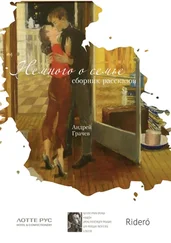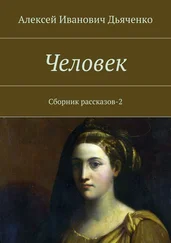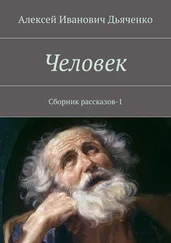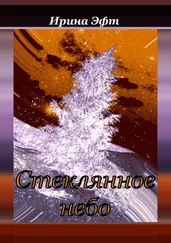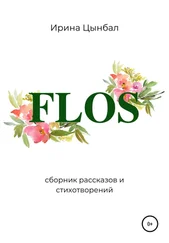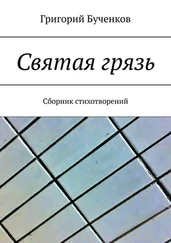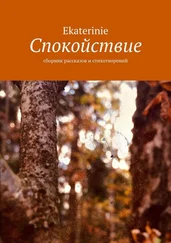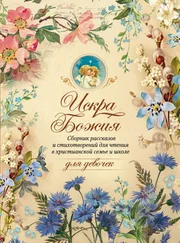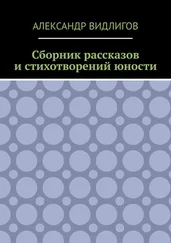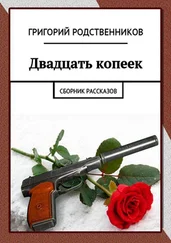– Милая мама! – сказала она со слезами на глазах. – Ты знаешь, что я прежде радовалась, смотря на грядку, которую ты мне позволила оставить покрытой сорной травой… Теперь на ней ничего нет, кроме почти засохшей травы, тогда как наш огород и зелен, и свеж, и уже принес плоды!..
На эти кроткие слова раскаяния добрая мать отвечала ласковым словом утешения и участия.
– Слушай же, мое милое дитятко: помни, что огород подобен нашей душе. Как в огороде, так и в нашей душе есть много доброго; но есть в нем (и еще более) и худое. Что добрые растения в огороде, то добрые желания в нашей душе; сорная трава – это наши грехи и злые желания. Как тебе грустно было смотреть на очищенный огород, потому что он сделался пустым, так грустно и тяжело человеку оставить свои худые привычки: без них ему жизнь кажется постылой. Он не оставляет их, не старается истребить – и что же? Они приводят его на край гибели; всё доброе в нем умирает; он перестает любить Бога, ближних, своих родителей… Вот смерть лишает его жизни, он является перед Богом, и нет у него ничего, никаких добрых дел; и самые пороки, как тебе теперь трава, не кажутся ему более приятными; но после смерти нет покаяния. Человек подвергается вечному осуждению.
Откройте, дети, Евангелие от Матфея и прочитайте третью главу, стих десятый.
Одна из девочек прочитала: «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» .
– Запомните это место и старайтесь никогда не забыть его, – сказала мать своим детям. – Дерево, не приносящее плодов, то же, что сорная трава. Оно означает человека, не делающего добрых дел, человека, преданного пороку. Бегайте же греха, этого сорного растения, которое так часто заглушает в людях всё доброе.
– Здравствуй, Лиза!
– Здравствуйте, Иван Петрович.
– Почему ты вчера не остановилась, когда я тебя звал?
– Ах, да ведь с вами шли две женщины.
– Ну так что же? Разве ты сделалась нелюдимкой?
– О нет! Я торопилась.
– Ну, на одну минуту-то ты могла бы остановиться.
– Да, но я несла кувшин с водой, потому стыдилась.
– Вот тебе нá! Ты смешишь. Так, по-твоему, стыдно носить воду?
– Да, нести на улице.
– На что же у нас руки? Работать вовсе не стыдно; а стыдно то, что теперь многие девушки стыдятся работать.
– Но ведь носить воду прилично только служанкам.
– А разве ты не знаешь, где и как встретил посланный от Авраама Ревекку?
– Знаю очень хорошо: он встретил ее, когда она несла на плечах своих ведро воды, – дала напиться рабам Авраама, а также и верблюдам.
– Вот видишь ли! А ее отец был очень богатый человек, которому служили сотни рабов; да и сама Ревекка имела много рабынь. Кому же, как не ей, можно было оставаться праздной и требовать услуги от других?
– Да, вы правы, Иван Петрович; я не буду больше этого стыдиться.
– И хорошо сделаешь, потому что это ложный стыд. И он может дойти до того, что наконец дочь не захочет подать стакан воды больной матери; ведь и это, пожалуй, может показаться неприличным.
Мороз Иванович
(народная сказка в обработке В.Ф. Одоевского)
Была у мачехи падчерица Рукодельница да дочь Ленивица. Рукодельница была умная девочка; рано вставала и за дело принималась: печку топила, хлебы месила, избу мела, петуха и кур кормила, а потом к колодцу за водой ходила. А Ленивица меж тем в постельке лежала; уж разве наскучит лежать, так скажет: «Мама, надень мне чулочки; мама, завяжи башмачки»; а потом заговорит: «Мама, нет ли булочки?» Встанет, попрыгает, сядет к окошку мух считать: сколько прилетело да сколько улетело. Как всех пересчитает Ленивица, так уж и не знает, за что приняться; ей бы к окошку мух считать – да и то надоело; ей бы в постельку – да спать не хочется; ей бы покушать – да есть не хочется; сидит, горемычная, плачет да жалуется на всех, что ей скучно, как будто в этом другие виноваты.
Между тем Рукодельница воротится и примется чулки вязать или шить да кроить, да еще песенку затянет, и не было ей никогда скучно, потому что скучать-то ей было некогда.
Однажды с Рукодельницей беда приключилась: пошла она за водой, опустила ведро на веревке, а веревка-то и оборвалась; упало ведро в колодец. Расплакалась бедная девочка и пошла к мачехе рассказать свою беду. А мачеха была строгая, сердитая и говорит:
– Сама беду сделала, сама и поправляй; сама ведерко утопила, сама и доставай.
Нечего было делать: пошла бедная Рукодельница опять к колодцу, ухватилась за веревку и спустилась по ней к самому дну. Едва спустилась, смотрит: перед ней печка, а в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый; сидит да приговаривает:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу