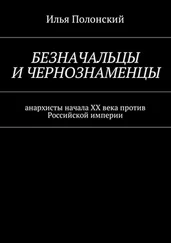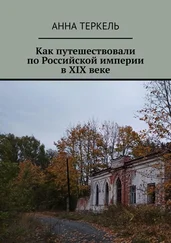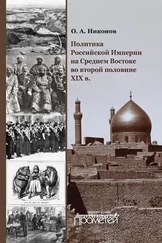Очередной ощутимый удар по единству христианства и христианской экклезиологии нанесла так называемая Великая схизма (1054 г.) между Римско-католической (Латинской) и Восточноправославной (Византийской) церквами, а также последовавшая за ней серия расколов между западными и восточными христианами (1204 г., 1453 г., 1484 г. 12) (693, с. 198–291; 925, с. 229). Вслед за «Великой схизмой» последовали крестовые походы, объявляемые понтификами с целью «освобождения Гроба Господня» от «сарацинов» (арабов-мусульман), а также настойчивые и энергичные попытки рыцарей-латинян и католического духовенства распространить влияние Рима на христианском Востоке и заставить местных христиан принять примат папы. Истинные замыслы католиков в отношении православных проявились в ходе Четвертого крестового похода 1204 г., когда его участники изменили конечную цель похода. В результате вместо «освобождения Гроба Господня и Святой земли» от «сарацин» крестоносцы захватили и разграбили столицу Византийской империи – Константинополь, осквернив главную святыню православия – собор Св. Софии (693, с. 199).
Крестовые походы на Ближний Восток побудили маронитов заключить унию с Римско-католической церковью (1182 г.), понтифик которой признал маронитских первоиерархов в сане патриархов Антиохийских 13. Впоследствии марониты старались доказать, что их предки не были монофелитами и никогда не отступали от православия, постоянно находясь в духовном общении с Римско-католической церковью (559, ч. 2, с. 262).
С начала XVI века за православными христианами также закрепилось наименование ар-рум. Перевод этого термина имел несколько значений: «ромеи», «византийцы», «анатолийцы», «греки» христианского Востока (875, с. 49–50; 586, т. 1, с. 48) 14. В то время Римская курия стала укреплять свои связи с Антиохийским патриаршим престолом, посылая в Дамаск не только дары и денежные пособия, но и миссионеров-иезуитов. Постепенно они входили в доверие к местным архиереям и пастве, изучали арабский язык и даже проповедовали в храмах Дамаска, Сайды и Алеппо в привычном для местной арабской паствы православном облачении (559, ч. 2, с. 270–271) 15. По словам К.М. Базили, бедность и необразованность арабского духовенства, самостоятельность Антиохийского престола и соседство униатских общин маронитов благоприятствовали успеху прозелитизма католиков-иезуитов. Когда же в 1724 г. от Антиохийского православного патриархата отделилась греко-католическая община, то их последователи не преминули присвоить себе полузабытое и менее употребляемое наименование «мелькиты», то есть «православные», претендуя на древнее наследие Антиохийской церкви. Греко-католические епископы выбрали из своей среды патриарха с титулом «православного патриарха Антиохии» (батрак Лнтакия аль-малакий ), сан которого подтверждался папской буллой (там же, ч. 2, с. 273). Следует иметь в виду, что православные арабские летописцы XVIII века продолжали именовать свою общину ар-рум (православной), а униатов – «католической» (таифа катуликийа ), или грекокатолической (рум катулик) (875, с. 50). По словам Г.А. Муркоса 16, «только по незнанию истории православные дозволили униатам присвоить себе название “мельхитин”» (613, с. 97).
Константинопольский патриарх как этнарх, или рум миллет ваши , и его взаимоотношения с патриархами православного миллета
Вслед за захватом Византийской империи османы подчинили Сирию, Палестину и Египет, на территориях которых располагались остальные Восточные патриархаты. Константинопольский патриарх превратился в столичного патриарха османского государства, собрав под своим кафолическим (вселенским) омофором 17некогда равных себе по патриаршему сану предстоятелей остальных православных церквей Арабского Востока. После завоевания Константинополя османские султаны признали Греко-православную церковь главнейшей из христианских церквей и поддержали идею восстановления единства Православия в форме миллет-и рум под своим покровительством (851, с. 217). При содействии Османов во второй половине XVIII века Константинопольский патриарх получил право управлять болгарскими и сербскими диоцезами, которые ранее были автокефальными. Так, например, Константинопольский патриархат получил от Порты полномочия управлять Охридской (Ахридской, или Болгарской) архиепископией, представлявшей ранее независимый церковный округ из нескольких болгарских епископий. Почти одновременно с этим к Константинопольскому патриархату была присоединена Сербская церковь с ее главной кафедрой в косовском городе Печ (735, кн. I, с. 107–108; кн. II, с. 326–327). Таким образом, в начале XIX века Константинопольская церковь обладала таким властным статусом, о котором не могла и помышлять в византийскую эпоху. Церковное верховенство рум миллет баши для Порты было бесспорным, чего нельзя было сказать обо всей православной османской ойкумене.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
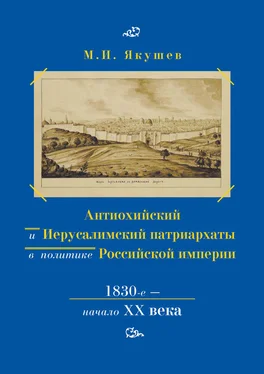


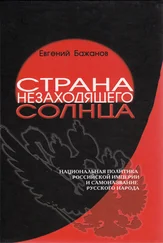
![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/325656/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii-thumb.webp)