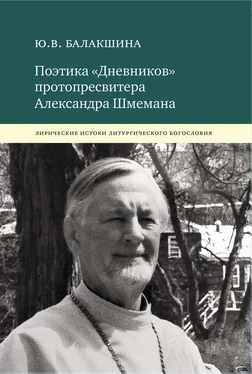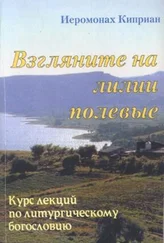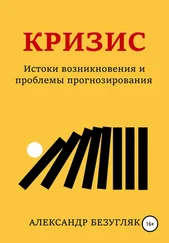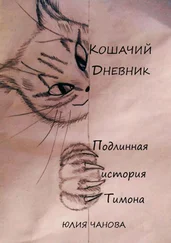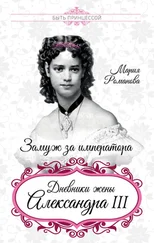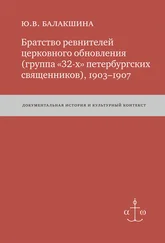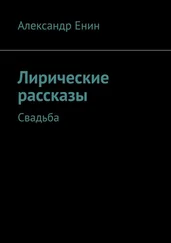Еще одно важнейшее следствие «поэтического воспитания» о. Александра – его понимание символа и образа, его убеждение в том, что язык образов и символов ближе к содержанию веры, чем дискурсивное «ученое» богословие в понятиях. Глубокое своеобразие идеи символа Шмемана, несомненно, глубже раскрывается в его трудах по литургике, чем в «Дневниках». «Дневники» говорят нам скорее о неотступности внутренней работы Шмемана над этой темой. Символ в понимании Шмемана – это нечто противоположное аллегории (или, его словами, школьному «изобразительному символизму»): истинный символ епифаничен. Между навыком аллегорического толкования и «идеологизацией» смысла существует самая тесная связь. Шмеман чувствует эту связь и хочет освободить веру из этой тюрьмы «религиозности».
Что противоположно глубинной, лирической по существу жизни «здесь – и не здесь», в присутствии «последних вещей»? Мы видим в «Дневниках»: мелкость и рутина (в том числе внутрицерковной жизни), суета, к которой для Шмемана относятся как будто вполне почтенные занятия, когда в них нет полноты присутствия. И главное – идеология. Превращение веры в идеологию – это то, чего самым решительным образом не принимает Шмеман. Идеология, насилие над живой и никогда не равной себе жизнью, над смыслом, который не сводится ни к какой редукции, всегда несет в себе дурной пафос и всегда грозит ненавистью и раздором (у идеологии всегда есть враг, и врагу в ней принадлежит центральное место). Идеология просто не терпит того, «чему имени нет»; в ней все выяснено и названо раз и навсегда. Это самая большая подмена веры как живой тайны, как внутреннего мира, свободы и благодарности. И, конечно, идеология – смертельный враг поэзии; если веру она стремится присвоить и подменить, то поэзию просто на дух не переносит. Шмеман, относящий себя к «эмигрантским мальчикам», с тревогой замечает идеологизм в лучших из «советских мальчиков», в своих знакомых из новой эмиграции. Это и в самом деле одно из самых больших искажений человеческой души, которое принесли годы идеологического режима.
Не хочется говорить о скучной, хотя, увы, и до сих пор актуальной для нашего православия теме: о вражде церковной и светской культуры. Нужно заметить, что в современном католичестве эта вражда (со стороны церкви; новейшее искусство остается в целом негативистским, и об этом много размышляет в «Дневниках» Шмеман) давно преодолена. В «Послании художникам», написанном в 2000 году, Иоанн Павел II прямо говорит о благодатности художественного дара, о вдохновении как аналоге епифании, о том, что художник прежде, чем со своим материалом (словом, цветом, звуком), работает с собственной человечностью, с тем «лучшим я» в себе, которое так дорого о. Александру Шмеману. В современной православной традиции мы не встретим такой уверенной апологии творчества.
Юлия Балакшина видит в «Дневниках» документ преодоления конфликта культуры и веры, который происходит в опыте одной глубоко верующей, просвещенной и одаренной души – в поэтической душе протопресвитера Александра Шмемана. Эта книга касается множества важнейших и сложных тем, каждая из которых достойна отдельного размышления и исследования.
О. А. Седакова
В 2005 г. в издательстве «Русский путь» впервые в России были опубликованы «Дневники» известного литургиста и богослова протопресвитера Александра Шмемана. Они стали бестселлерами книжных продаж в церковной среде и предметом горячих дискуссий среди людей, не безучастных к судьбе Православия. В течение го лет, прошедших с момента первого издания, интерес к «Дневникам» Шмемана не угас, но сместился из области публицистической в сферу интересов более фундаментальных: богословских, философских, исторических. Настоящий труд представляет собой попытку взглянуть на последнюю книгу отца Александра глазами филолога.
«Дневники» дают богатый фактический материал для историка русской литературы XX века. Их автор вырос в среде первой русской эмиграции, прочно связанной для него с прозой Ивана Бунина, Ивана Шмелева, Бориса Зайцева и поэзией Георгия Адамовича, Владислава Ходасевича, Бориса Поплавского; он не только встречался, но и дружил со многими литераторами третьей русской эмиграции – Александром Солженицыным, Иосифом Бродским, Наумом Коржавиным, Владимиром Максимовым. Тонкий и проницательный читатель, глубокий, думающий человек, Александр Шмеман оставил драгоценные свидетельства о литературной атмосфере русского Парижа, о духовных и литературных поисках русских поэтов и писателей, оказавшихся в Америке.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу