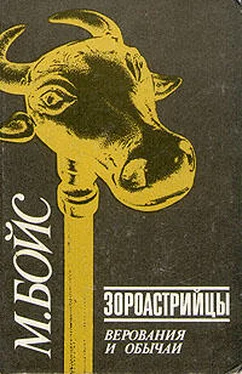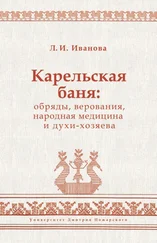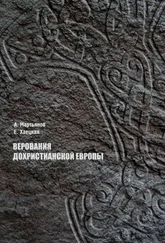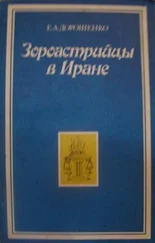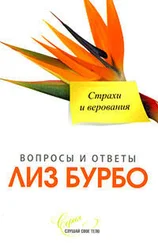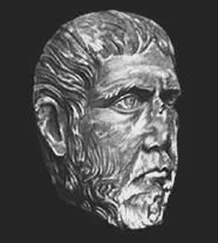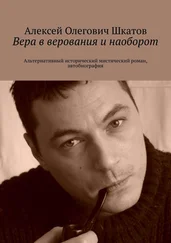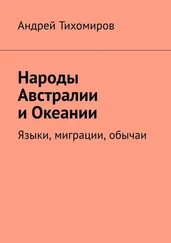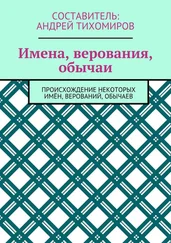Необходимость больших знаний остро ощущалась традиционалистами так же, как и реформаторами. Последователи партии Кадми в 1854 г. основали в Бомбее школу Мулла-Фирозэ-Мадресса для обучения молодых священнослужителей. Сначала обучение оставалось только традиционным с изучением сочинений наподобие «Персидских ривайатов» и механическим зазубриванием основных авестийских текстов. Некий Харшедджи Кама, мирянин из партии Кадми, осуществил соединение такого традиционного обучения с западной школой. Ни один служащий жрец не мог еще осмелиться нарушить свою ритуальную чистоту, отправившись в морское путешествие, но Харшедджи, отличившийся во время обучения в Элфинстонском институте, по делам торгового дома своей семьи поехал в Китай, а затем в Европу. Там он оставил коммерцию и весь 1859 год провел в посещениях видных ученых-иранистов.
Обладая проницательным умом и прекрасной памятью, за короткий срок он усвоил достаточно знаний, чтобы, вернувшись в Бомбей, продолжить изучение авестийских и пехлевийских текстов на западный манер. Он собрал вокруг себя небольшую группу, состоящую из молодых одаренных жрецов. В течение последующих двенадцати лет они регулярно встречались. Один из них, Шериарджи Бхаруча, позднее писал, что «с каждой встречей они чувствовали, будто пелена невежества спадает с их глаз… Не довольствуясь изучением лишь авестийских и пехлевийских книг, г-н Кама приступил к занятиям сравнительной грамматикой… Конечно, нелегко было изучать… старые парсийские представления, учения и взгляды на историю… И учителю, и ученикам каждый день приходилось забывать многое из того, что они уже усвоили ранее». Тут снова сказалось европейское воздействие: открытия в области лингвистики западных ученых послужили невольным подтверждением западных взглядов на зороастрийскую теологию.
Молва о занятиях Харшедджи распространялась. Это привело к основанию приверженцами направления Шеншаи на средства сэра Джамшетджи Джиджибхая своей школы – Зартушти-Мадресса – «для обучения авестийскому, пехлевийскому, санскриту, английскому и другим языкам сыновей парсийских жрецов… чтобы они могли как следует понимать зороастрийскую религию». Большинство учеников Кама смогли жить на стипендии и работая учителями в этой школе и в Мулла-Фирозэ-Мадресса, потому что ни один из них, познакомившись с научной критикой Авесты, не захотел остаться жрецом.
Община остро нуждалась в образованном духовенстве, но тот факт, что зороастрийское богослужение совершается без книг, означает, что каждый служащий жрец должен в юности потратить огромное количество времени, чтобы наизусть выучить длинные литургические тексты, а затем постоянно освежать их в памяти на протяжении всей жизни. Постепенно было достигнуто соглашение, по которому сыновья жрецов рано утром, с восходом солнца, отправлялись в традиционную духовную школу, а затем в течение дня получали светское образование вместе со своими сверстниками-мирянами. Впоследствии все меньше и меньше детей духовенства желало стать жрецами, посвятить свою жизнь изобилующей повторениями службе, получая за нее довольно скудное материальное вознаграждение, тем более что положение жрецов в общине становилось все более униженным. Так, вместо наиболее способных детей профессии жрецов-отцов стали следовать тупицы, и престиж духовенства еще больше понизился.
М. Хауг и Э.В. Уэст о верованиях зороастрийцев
Блестящий молодой немецкий филолог Мартин Хауг сделал открытие, которое многое изменило. По его мнению, Гаты написаны на более старом диалекте, чем другие части Авесты, и лишь они могут считаться подлинными изречениями Зороастра. В свете этого открытия он заново перевел исключительно трудные тексты, пытаясь найти в них подтверждение установившемуся научному убеждению о строгом монотеизме пророка. Подтверждение тому он обнаружил в повторяющихся в Гатах осуждениях демонов-даэва, которые он и истолковал как отречение от всех божественных существ, кроме Ахура-Мазды. (Что было естественной ошибкой для ученого, знакомого с ведами, в которых родственное слово «дэва» является обычным для обозначения божества.) Дуализм, столь очевидный в Гатах, М. Хауг трактовал таким образом, что выявил тонкое различие между теологией Зороастра, «по которой он признавал лишь одного бога» (то есть Ахура-Мазду), и его «чисто философским учением» о наличии двух первичных причин (то есть Спэнта и Ангра-Маинйу). Амэша-Спэнта, заявил он, – «не что иное, как абстрактные имена и идеи». М. Хауг изложил эти толкования no-английски в «Эссе» (Haug, 1862, с. 300 и сл.). Что касается ритуалов, то умалчивание (как он полагал) о них в Гатах означает, что Зороастр «не верил в них и не считал их существенной частью религии».
Читать дальше