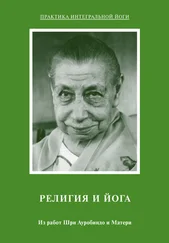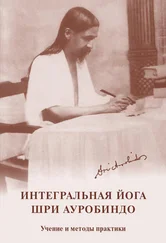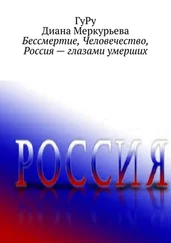Произведение Элиаде – научно-популярный текст, в лучшем значении этого слова. В большей степени акцент, конечно, ставится на "научности", что выражается и в осторожности выдвижения гипотез, и в тщательности доказательств тех или иных положений, и опоре на "факты", а также в большом количестве сносок и цитат из источников и монографий. Одна библиография в американском издании "Йоги" 1958 г. (откуда и сделан наш перевод) занимает свыше 40 страниц! Все это, разумеется, свидетельствует о добросовестном отношении автора к своему делу – хотя несомненно и то, что в определенных местах заметны субъективизм и пристрастность, небрежность и туманность формулировок. Тем не менее плюсы явно перевешивают минусы; "Йога" давно стала классическим произведением, на который обязательно ссылается всякий исследователь, пишущий о горизонтах индийской духовности. Особую же ценность изложению придает то обстоятельство, что Элиаде знаком с йогой не понаслышке, что он говорит во многом на основании своего личного йогического опыта, пусть даже если этот опыт не был доведен до конца.
Примерно четверть труда Элиаде занимает описание классической йоги Патанджали. Эта доктрина была наиболее известна на Западе, до такой степени, что о йоге вообще судили исходя из этого классического образца, часто вообще не признавая никакой иной йоги, кроме нее. Ко времени Элиаде появились сотни книг и публикаций, посвященных этой йоге, и он хорошо сознавал, что вряд ли может что-нибудь добавить существенное в область ее исследований. Это заметно хотя бы в постоянных ссылках на книги Дасгупты по йоге – одновременно и дань уважения к бывшему наставнику, и понимание его колоссальной эрудиции в этой области. Поэтому Элиаде, несмотря на тщательность, с которой он разбирает "по составу" йогические трактаты, прежде всего "Йога-сутры", свою главную задачу видит все-таки в другом, а именно в демонстрации все того же принципа "множественности сакрального", т.е., в данном случае, множественности ликов йоги, которые не всегда соответствуют структуре одной из шести (на самом деле, конечно, их гораздо больше) ортодоксальных даршан. Но этот же принцип требует, чтобы были представлены все образцы предмета, в первую очередь уже достаточно известные.
Таким образом, классическая йога служит своего рода точкой отсчета (и одновременно парадигмой, отличие с которой выверяют для себя все прочие формы йоги) для погружения в своеобразную спиритуалистическую атмосферу Индии.
Элиаде открывает свой основной текст замечанием о том, что "индийский дух" может быть достаточно адекватно истолкован в свете любого из четырех "основных понятий" – кармы, майи, нирваны и йоги. Подобная четверица, которая отчетливо распадается на две пары "оппозиции", отрицательную и позитивную, нужна автору для того, чтобы показать значимость феномена йоги: замыкающее положение йоги в этой структуре свидетельствует о том, что без йоги, как средства спасения, невозможно обрести нирвану. Любопытно, что Элиаде строит эти "кинетические понятия" в порядке, соответствующем расположению буддийских "благородных истин". Именно буддизм впервые в истории индийской мысли четко формулировал постулаты, касающиеся страдания, его причины, спасения и пути к последнему. В этом случае "йога" в четверице Элиаде тождественна "благородному восьмеричному пути", который адептами раннего буддизма был провозглашен единственно верным средством спасения. Уже отсюда видно, что йога понимается автором достаточно широко, целиком заполняя ту нишу, которую индийское сознание отводит под необходимое "поле" между нашим бренным миром и обителью блаженства и свободы. Йога есть практическая сотериология, и свой смысл она обретает только на пути к окончательному выходу из "сансары".
Уже в этом, начальном разделе Элиаде указывает на "инициатический" характер йоги как на ее сущностную черту, что позволяет ему найти йоге место в ряду "архаических систем". Йогин, как и шаман, начинает свой путь с того, что соглашается умереть для обыденного мира, с тем чтобы впоследствии "воскреснуть" на другом модусе существования. Но если для кандидата в шаманы инициация – акт однократный и окончательный, и после того, как она осуществилась и кандидат стал шаманом, для последнего нет необходимости превращаться в "сверхшамана", то для йогина весь его долгий и сложный путь представляет инициацию, ибо, в отличие от шамана, ему еще предстоит "перепрыгнуть" через себя самого, чтобы стать дживанмуктой, "освобожденным при жизни". Йогин не может "умереть" сразу; мгновенное просветление здесь неуместно. Впрочем, даже если оно и состоится, этим не отменяется необходимость развертывания усилий по движению "против потока" – для того чтобы просветление не пропало втуне. Иначе говоря, йога не может существовать иначе, чем в конфликте и борьбе с "миром" и "мировой иллюзией", майей, которой Элиаде отвел вторую позицию в своей четверице и которая является коррелятом буддийской авидье, "неведению".
Читать дальше