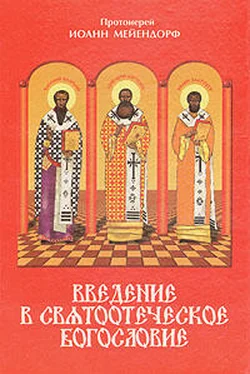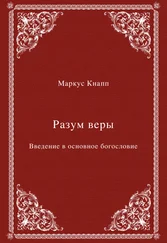Особый интерес в писаниях св. Игнатия для нас представляют две взаимосвязанные темы ― христология (учение о Христе) и экклесиология (учение о Церкви). Следует иметь в виду, что в истории ранней Церкви Игнатий был первым крупным христианским писателем нееврейского происхождения и из нееврейского окружения, и в его письмах содержится довольно мало ссылок на Ветхий Завет.
Учение Игнатия о Христе окрашено его полемикой против докетов ― еретиков, отрицавших материальный аспект Боговоплощения и считавших Христа кем-то вроде бесплотного ангела:
Потому не слушайте, когда кто будет говорить вам не об Иисусе Христе, который произошел из рода Давидова от Марии, истинно родился, ел и пил, истинно был осужден при Понтии Пилате, истинно был распят и умер,... который истинно воскрес из мертвых, так как Его воскресил Отец Его, который подобным образом воскресит и нас, верующих в Иисуса Христа, ибо без Него мы не имеем истинной жизни.
(«К Траллийцам», 9)
Св. Игнатий безусловно отвергает всякие сомнения в конкретной материальности тела Христа. Эта конкретность, осязаемость, историчность имеют решающее значение для нашего спасения, ибо если телесный облик Христа был лишь видимостью (как утверждали докеты), то и спасение наше происходит лишь по видимости, а не в действительности.
В богословском отношении св. Игнатий принадлежит к малоазиатской традиции. По терминологии он приближается скорее к св. Иоанну Богослову, нежели к ап. Павлу. Павел пользуется словом сома , «тело», в положительном смысле, тогда как слово саркс , «плоть», в его писаниях имеет отрицательный оттенок. Св. Иоанн говорит о «плоти» положительно: «И Слово стало плотью» (Ин.1:14), и в этом смысле он близок к еврейской традиции, употребляющей слово басар , «плоть», как нечто благое, сотворенное и благословенное Богом. Св. Игнатий, утверждая реальную, плотскую природу Христа, также пользуется словом «плоть» в положительном смысле; иногда его описание Спасителя звучит почти что, как халкидонское вероопределение:
Есть только один врач, телесный и духовный, рожденный и нерожденный. Бог во плоти, в смерти истинная жизнь, от Марии и от Бога, сперва подверженный, а потом не подверженный страданию, Господь наш Иисус Христос.
(«К Ефесянам», 7)
Следует повторить, что, настаивая снова и снова на реальном, плотском характере Боговоплощения, Игнатий тем самым утверждает реальность нашего спасения. Чтобы спасти нас, Христос должен был в точности уподобиться нам, а, следовательно, облечься настоящей живой человеческой плотью.
Такая сотериология (учение о спасении) служит также основой христианской нравственности, которая состоит в подражании Христу. Это подражание не ограничивается лишь соблюдением нравственного закона, но ― как Спаситель полностью и реально воспринял нашу человеческую участь, так же и мы должны сознательно уподобиться Его жизни и особенно Страстям и смерти:
А если иные, как некоторые безбожники, то есть неверующие говорят, что Он страдал только призрачно, ― сами они призрак, ― то зачем же я в узах? Зачем я пламенно желаю бороться со зверями? Зачем я напрасно умираю? Значит, я говорю ложь о Господе?... И так как все имеет конец, то одно из двух предлежит нам: смерть или жизнь, и каждый пойдет в свое место. Ибо есть как бы две монеты, одна Божия, другая мирская, и каждая имеет на себе собственный образ, неверующие ― образ мира сего, а верующие в любви ― образ Бога Отца чрез Иисуса Христа. Если мы чрез Него не готовы добровольно умереть по образу страдания Его, то жизни Его нет в нас.
(«К Траллийцам», 10; «К Магнезийцам», 5)
Иными словами, если Христос существовал лишь по видимости (а в такое призрачное существование Христа верили докеты и многие гностики), то тогда и смерть Его была призрачной. Но, по мнению св. Игнатия, как никто из учителей раннего христианства настаивавшего на реальности Боговоплощения. Христос действительно умер на Кресте, и мученичество является совершенным Ему подражанием. Своей смертью за нас Христос победил смерть, и поэтому смерть за веру, во имя Христово ― свидетельство бессилия смерти. Гонений как таковых было нетрудно избежать, но христиане сознательно стремились умереть или пострадать за Христа, тем самым демонстрируя истинную преданность Тому, кто страдал и умер за нас и самое смерть обратил в победу. Отсюда и иначе необъяснимые пыл и стремление св. Игнатия претерпеть мученичество. Так, в послании к Римлянам он просит римских христиан не заступаться за него и не стараться воспрепятствовать его смерти:
Читать дальше