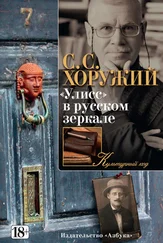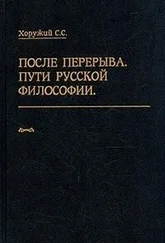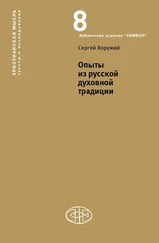Сказанное не объясняет, однако, одного: огромного влияния и значения Соловьева и соловьевской софиологии в истории русской мысли. Что и естественно, ибо такая роль еще никак не вытекает ни из юношеской «Софии», ни из тяги к «свободной теософии» и религиозному реформаторству. Ее обеспечивает нечто совсем иное: открытие нового религиозно-философского направления, по которому следом за Соловьевым пошли многие. Сомнительная софийная мистика соединялась у Соловьева с несомненным философским даром и мощным системосозидательным импульсом. И это соединение творческих потенций приводит к тому, что Соловьев открывает для софиологии новый путь, новое русло, в котором она становится уже не привычным конгломератом визионерства, гностических фантазий и рационалистических схем (и с тем — вполне маргинальным феноменом для истории мысли), но достаточно основательным философским направлением: метафизикой всеединства.
Связь Софии и всеединства — счастливая находка, открытие Соловьева, ставшее ключом к появлению единственного оригинального направления в русской философии. Всеединство давно было известно и признано в качестве принципа или символа, весьма плодотворного для метафизических построений. Это — идеальное и всеохватное единство множества, в котором сверхрациональным образом осуществляется тождественность всякой части — целому; оно недостижимо в эмпирическом, «падшем» мире, где непреодолимы разъединенность и конечность, и ближайшим родственным ему понятием может служить платоновский мир идей. Учение о всеединстве развивалось древнегреческими философами, а в христианскую эпоху получило порядочное распространение в широкой, влиятельной традиции христианского платонизма; его, в частности, весьма продвинул и углубил крупнейший мыслитель Возрождения кардинал Николай Кузанский (1401—1464). В Новое время оно почти исчезло из философии, однако присутствует у Шеллинга, чья философия, особенно поздняя, явно повлияла на Соловьева: мы найдем в ней не только всеединство, но и многие понятия и мифологемы («природа в Боге», «мировая душа» и др.)» какими Соловьев описывает Софию, впервые — если говорить об открытых текстах — вводя ее в собственную философию в Седьмом из «Чтений о Богочеловечестве» (1878). И все же связь, о которой мы говорим, у Шеллинга не акцентируется и не используется, не делается ключом и пружиною философского построения.
В контексте европейской философии конца XIX века, софиология, развиваемая как метафизика всеединства, — или же метафизика всеединства, строимая под знаком Софии, — едва ли могла восприниматься как крупная новация и привлекательный путь. Попытки построения религиозно-философских систем на базе более или менее умозрительного, обобщенно-универсализованного христианства входили издавна в европейский философский процесс и уж успели отойти на периферию. Ранняя метафизика Соловьева, изжив неприкрытый гностицизм «Софии», сильнее приблизилась зато к построениям немецкой философии — классического идеализма и отчасти романтизма. Стремление к всеохватному концептуальному синтезу, использующему принцип триады, не могло не ассоциироваться с Гегелем, внедрение в метафизику христианско-гностических мифологем — с поздним Шеллингом, и в целом, для европейского взгляда легко создавалось впечатление некоего запоздалого гибрида шеллингианства и гегельянства (впечатление, верное вовсе не до конца, ибо любые влияния никогда не уничтожали у Соловьева врожденной самостоятельности мысли в ее ядре). Но взгляд из России оказывался совсем иным — ибо иною была здесь философская и духовная ситуация.
Главной чертой философской ситуации было затянувшееся отсутствие русской философии. Независимо от всех прений славянофилов и западников, сама жизнь, сам ход русского самосознания с ясностью обнаруживали, что простой образованностью, усвоением европейской философии и присоединением к ее трудам не исчерпываются потребности русской культуры и русской мысли — ибо в эти потребности входит и что-то более самостоятельное, свое русло, свой философский путь. Этого долго не возникало — и философия Соловьева стала первым опытом, способным выполнить зачинательскую миссию. Она не только была первой философской системой, созданною в России, но и звала к продолжению своих тем. У нее были явные стимулирующие свойства: написанные логично, ясно, задорно, соловьев-ские тексты с легкостью возбуждали и притяжение, и отталкивание, и желание конструктивно-критичного философского продумывания. Но в полной мере вся ее роль понятна только в связи с шедшей за ней эпохой. Нельзя представить себе более тесной связи, более полного, интимного историко-культурного совпадения, чем Владимир Соловьев — и Русский религиозно-философский ренессанс. Облик Соловьева — и призрак его Софии — чудятся и мелькают всюду и на всем протяжении этой уникальной поры в жизни русского духа. Своим всеединством он задал Серебряному веку серьезную (хотя все ж, увы, архаичную) тему и большую работу; своей Софией он не просто оказался созвучен слабостям и соблазнам этой эпохи, но доброй долей создал эти соблазны. Российский Серебряный век, как мир древней Александрии, — мир в преддверии и предчувствии катастрофы. Серебряный век — русская Александрия, и Соловьев с Софией — пророк ее. Прошу не понять как юмор.
Читать дальше