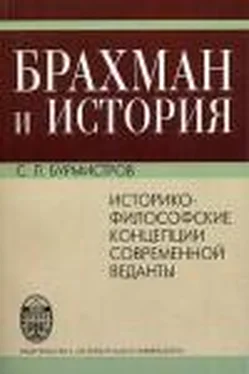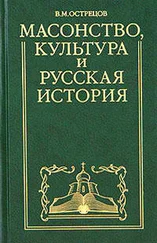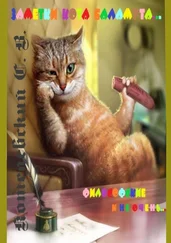II. Историко-философские КОНЦЕПЦИи С. Радхакришнана и С. Дасгупты в контексте мировой философии.
§1. Историко-культурная реальность и ее теологическое осмысление.
Ни одна идеологическая система — религиозная, философская, художественная или какая-либо иная — не может быть не связанной, во-первых, с конкретной исторической ситуацией в том регионе земного шара, в котором она возникла и существует, причем в историческую ситуацию включаются как политические процессы в данной стране, так и экономические ее особенности, социальная специфика и т. п., а во-вторых, с другими идеологическими системами, существующими как в данном регионе, так и в других частях света. Любая идеология неизбежно испытывает влияние как доктрин, возникших ранее и уже ставших достоянием истории, так и учений, конкурирующих с ней за доминирование над сознанием масс.
Историко-философские учения С. Радхакришнана и С. Дасгупты с этой точки зрения особенно репрезентативны в силу того, что они возникли в совершенно самобытной в идейном отношении стране, обладающей давней историей и богатой духовной (в том числе и философской) традицией, но при этом испытали сильнейшее воздействие со стороны европейской философии, что сделало их прекрасными образцами того, как происходит в современном мире взаимодействие цивилизаций и культур на идеологическом уровне. Надо заметить, что эти, на первый взгляд, абстрактные и оторванные от реальной жизни философские построения вызывают живейший интерес не только в узком кругу профессиональных философов, но и среди общественности, что «связано как с настоятельной потребностью самоопределения, так и с накалом внутриполитической борьбы в стране, в особенности по вопросу о путях дальнейшего ее развития, способов разрешения стоящих перед ней нелегких проблем. Индийцы весьма остро реагируют на “культурный империализм” США и других западных стран и стремятся противопоставить их агрессивному идеологическому натиску собственные духовные традиции» [250] Автономова Н. С., Андреев А. Л., Касавин И. Т. Философия в Индии: заметки и впечатления. // Живая традиция. К 75-летию Индийского философского конгресса. М., 2000, с. 189.
, которые, естественно, требуют углубленного изучения, а это изучение может осуществляться лишь в рамках определенной идейной парадигмы, задающей метод исследования, определяющей отбор и первичную обработку исходного материала, использование той или иной терминологии, отсылающей читателя к тем или иным элементам научной и, шире, культурной традиции, к которой исследователь себя причисляет, и выступающей как своего рода hyperlink. Совершенно естественно поэтому, что философ или историк, следующий, например, материалистической парадигме, будет пользоваться иной терминологией, опираться на иные факты, иначе интерпретировать данные и в итоге получит картину историко-философского процесса, очень мало подчас похожую на ту, что складывается в уме религиозного философа.
Если же перейти от общих рассуждений непосредственно к интересующей нас здесь теме, то нужно сказать, что Радхакришнан и Дасгупта, при всем их различии, похожи в одном: они – наследники древнейшей индийской духовной традиции, поэтому и среди всех вопросов, которыми они задаются, главный состоит в следующем: в чем самобытность Индии как культурного региона и как эта самобытность выражается в эволюции философского мышления на Индийском субконтиненте?
Оба философа отвечают на этот вопрос в целом одинаково. Их ответ прост: индийская философия является в первую очередь результатом рационального осмысления и изложения в формализуемых понятиях полученного свыше внерационального и супралогического опыта, имеющего религиозный характер, а потому самодовлеющего и безусловного. Отсюда свойственная индийской духовной жизни видение мира в категориях обусловленного – необусловленного (очень ярко это выразилось в буддийской философии, особенно в мадхъямике [251] Venkata Ramanan K. Nagarjuna’s philosophy as presented in the Maha-Prajnaparamita-Sastra. Delhi – Patna – Varanasi, 1978. Андросов В. П. Нагарджуна и его учение. М., 1990.
) и представление об обусловленном (то есть о наблюдаемом, феноменальном мире) как об аксиологически негативном и поиск необусловленного ради спасения из мира страданий.
В обоих случаях (равно как и у подавляющего большинства индийских философов ХХ века) истинной природой человека признается дух – нечто, во-первых, неизменное, а во-вторых, нематериальное. В этом и заключается в основном специфика индийской ментальности по отношению к менталитету современной западной цивилизации: субстанциальное понимание природы человека для Радхакришнана, Дасгупты и подавляющего большинства индийских философов вообще является подлинным ядром всех идеологических систем Индии – как древних, так и современных. Даже буддизм включается Радхакришнаном в число субстанциалистских учений: «Невозможно предположить, что Будда не признавал ничего постоянного в этой сумятице мира, что он не видел во всеобщем водовороте места отдохновения, где могло бы найти покой измученное человеческое сердце. Как бы Будда ни старался уклониться от ответа на вопрос о первичной реальности, лежащей за пределами категорий мира явлений, он, по-видимому, совершенно не сомневался в ней. Есть нерожденное, непоявившееся; несделанное, несоставное; “если бы его не было, о монахи, не было бы спасения из этого мира рожденных, явившихся, сделанных и сложных”. Будда верил в длящуюся онтологическую реальность, на фоне которой сменяются кажимости видимого мира» [252] ИФ, т. 1, с. 331.
. Знаменитое же «благородное молчание» Будды, которым он отвечал на вопросы, требующие решения проблемы субстанциальности феноменов, объясняется, по всей видимости, тем, что Будда саму постановку подобного рода вопросов считал некорректной: невозможно спрашивать, умирает душа со смертью тела или нет, если само понятие души ничего, собственно, не обозначает, а для вечно пребывающей онтологической реальности нет и не может быть никаких обозначений.
Читать дальше