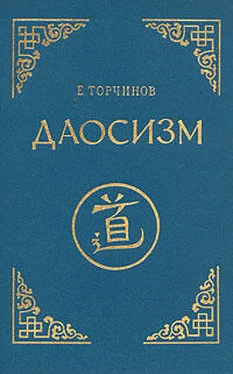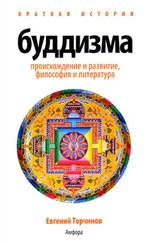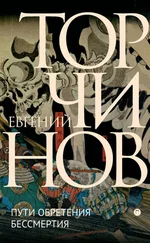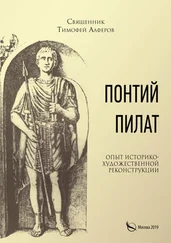Сам подход Вэй Бояна вполне рационален, однако «сродство видов» определялось на основе традиционного классификационизма и нумерологии. К тому же, функционально заменяя представление о причинности, учение о «тун лэй» никоим образом не могло способствовать ее формированию.
Здесь же следует указать на концепцию гомоморфности (подобия) микро- и макрокосма. Особенно важную для «внутренней» алхимии, и связанное с ней представление о возможности моделирования универсума и управления созданной моделью. В этом отношении китайская алхимия типологически близка таким явлениям китайской культуры, как садово-парковое искусство и создание миниатюрных пейзажей в особенности, и пейзажная живопись: все эти культурные феномены объединяет стремление к конструированию микрокосма, причем микрокосма совершенного.
Казалось бы, что в алхимии, в отличие от искусства, господствует прагматическое и утилитарное отношение к созданной модели универсума. Однако это не совсем так, поскольку, как будет показано ниже, в алхимии получило достаточно широкое распространение представление о том, что уже само созерцание космического процесса в алхимическом рукотворном космосе поднимает адепта по ступеням совершенства и ведет к одухотворению и обретению бессмертия (о китайской концепции гомоморфности макро- и микрокосма см. А. И. Кобзев, 1987, с. 189–190).
К специфически алхимическим представлениям относится и признание тезиса о возможности искусственно ускорять процесс трансмутации (совершающийся согласно алхимии и в природе) через нагревание. Отсюда значительное внимание к огню и его роли в ходе сжимания временных циклов алхимического микрокосма. Во «внутренней» алхимии учение о «периоде нагревания огнем» (хо хоу) превратилось в теорию применения дыхательных упражнений (по аналогии с кузнечными мехами) в ходе психофизиологического тренинга «нэй дань».
Обращаясь к общеметодологическим основаниям алхимии как части традиционной китайской науки, следует сразу же сказать, что роль таковых играла нумерология. А следовательно, алхимия как часть традиционного природознания оказывалась основанной на комплексе представлений и связанных с ними операций по классификациям, упорядочиванию материала и т. д., восходящих исходно к логико-ритуальной деятельности (см. А. И. Кобзев, 1988), что способствовало дополнительной идеологизации алхимии.
Интересно, что нумерологическая методология достаточно рано стала в алхимии объектом теоретической рефлексии и фактом самосознания самой традиции. Об этом свидетельствует появление таких текстов, как «Цань тун ци» (II или Х в., подробнее ниже), «У чжэнь пянь» («Главы о прозрении истины») Чжан Бодуаня (XI в.) и др.
Нумерологическая методология алхимии представлена в этих текстах в своем концентрированном выражении – как теории «Канона Перемен» («Чжоу и», «И цзин»). Весь алхимический процесс описывался через определенные операции с триграммами (гуа), гексаграммами и их чертами (яо). Так, например, согласно даосскому учению тело бессмертного состоит из чистой пневмы ян. Ее создание поэтому может быть описано через операции с триграммами «кань» («вода») и «ли» (огонь), символизирующими «апостериорные» (хоу тянь) пневмы инь и ян: триграмма «кань» соответствовала «ян» первостихии «дерево» (средняя черта – ян, появившееся в глубинах инь), а триграмма «ли» – инь «металла» (аналогичная символика). Создание «бессмертного зародыша» (сянь тай) описывалось через «обмен» этих триграмм средними чертами. В результате триграмма «кань», получив недостающую ей среднюю прерывистую черту, становилась триграммой «кунь» (земля), состоящей из одного инь, и отбрасывалась, а триграмма «ли» обогащалась третьей непрерывной линией, превращаясь в триграмму «цянь» (небо), символизирующую чистое «априорное» ян первостихии огня нового бессмертного тела адепта. Подобного рода ицзиновский инструментарий, возникнув в традиции «внешней» алхимии, получил особое развитие во «внутренней»; возможно, это связано с тем, что расцвет «нэй дань» пришелся на XI–XII вв., когда шла интенсивная осознанная разработка нумерологической проблематики в неоконфуцианстве.
Важным представляется тот факт, что нумерология в алхимии выступала методологией в чистом виде, минимально связанной с алхимической эмпирией: например, «Цань тун ци» выступал как описание инструментария и методологии как «внутренней», так и «внешней» алхимии, что иногда ставило в затруднение комментаторов (см. Вэй Боян, 1937, с. 12, комментарий: «Здесь говорится о “внутренней” алхимии, но вместе с тем утверждается, что эликсир кладут в рот. Непонятно, каков смысл этого»). Эта же абстрагированность трактата от алхимической практики, методологию которой он представлял, позволила даже Чжу Си (1130–1200 г.) издать и отчасти прокомментировать этот текст как сочинение по доктрине «Чжоу и».
Читать дальше