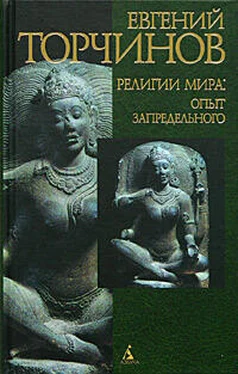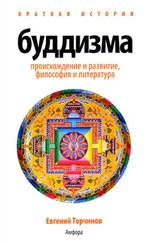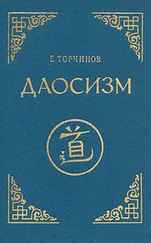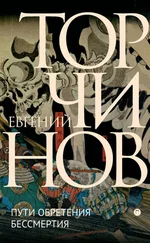Хорошо известно, что в различных группах мистической ориентации, кружках йоги, центрах медитации и пр. высок процент людей с психическими расстройствами, что обычно объясняется на первый взгляд вполне естественным (а на самом деле достаточно безосновательным) представлением о психотическом характере привлекающих психотиков форм практики (по принципу «рыбак рыбака видит издалека»). Однако гораздо правдоподобнее предположение, что эти психопатические личности в силу некоторого подсознательного чувства влекутся к различным формам психотехники как к лекарству, психотерапии, способу исцеления. И только из-за крайней неразвитости трансперсональных (в широком смысле слова) центров в нашей стране, руководимых к тому же подчас откровенными шарлатанами (которых немало среди наставников йоги или медитации), они не получают искомого.
Таким образом, данные трансперсональной психологии свидетельствуют о «сверхнормальности», а не о ненормальности трансперсонального опыта. Именно поэтому мы отказываемся от термина «измененные состояния сознания», предполагающего, что единственно нормальным, нормативным и эталонным является состояние сознания некоего «среднего человека», соответствующее стандартному ньютоно-картезианскому видению мира, а все остальные «измененные», что есть лишь вежливая форма психопатологического. Но увы, в таком случае психотиком можно счесть и современного физика-теоретика с его теорией относительности, корпускулярно-волновым дуализмом, искривленным пространством-временем, закругляющейся бесконечной вселенной и другими еще более «шизофреническими» концепциями.
Позволим себе обширную цитату из С. Грофа:
«Опыт и поведение шаманов, индийских йогов и саддху (святых отшельников) или духовных искателей других культур по западным психиатрическим стандартам следовало бы диагностировать как явный психоз. И наоборот, ненасытное честолюбие, иррациональные побуждения к компенсации, технократия, современная гонка вооружений, междоусобные войны, революции и перевороты, считающиеся нормой на Западе, рассматривались бы восточным мудрецом как симптомы крайнего безумия. Точно так же нашу манию постоянного прогресса и «неограниченного роста», наше отрицание космических циклов, загрязнение жизненных ресурсов (воды, почвы и воздуха), превращение в бетон и асфальт тысяч квадратных миль земли в таких местах, как Лос-Анджелес, Токио или Сан-Пауло, американский или мексиканский индеец-шаман посчитал бы чудовищной несообразностью и опасным массовым безумием». (Гроф С. За пределами мозга. С. 323.)
К этой цитате добавить уже нечего.
Выше несколько раз упоминалась проблема научной парадигмы, поскольку именно господствующая в науке парадигма, принятая наукой «философия», обусловливает отношение к тем или иным фактам, к той или иной информации. Как таковая проблема научной и философской парадигмы в связи с вопросами религиозного опыта будет обсуждаться в заключении этой работы. Однако представляется уместным уже сейчас сказать несколько слов о некоторых, зачастую замалчиваемых в научном сообществе, аспектах сдерживающего влияния старой (классической) научной парадигмы на развитие религиоведения, этнологии, философии, психологии и других смежных дисциплин.
Все специалисты, имеющие отношение к этнологическим и этнографическим исследованиям, хорошо знают, что при полевых исследованиях различных неевропейских культур (как архаических, так и высокоразвитых) исследователю приходится сталкиваться с весьма значительным количеством фактов, которые совершенно необъяснимы с точки зрения господствующей научной парадигмы. Из опасения за свою профессиональную репутацию и боязни быть обвиненными в ненаучности, легковерии и т. п. ученые, сталкивающиеся с такого рода фактами, как правило, оставляют их для разговора в узком кругу или для застольных бесед с приятелями. Во всяком случае, в их научные публикации данные факты не попадают, а следовательно, и не становятся объектом теоретической рефлексии. [22] Об этом же см.: Гроф С. За пределами мозга. С. 45.
Между тем научное описание различных паранормальных феноменов, засвидетельствованных авторитетными специалистами, могло бы сыграть важную роль в трансформации самой научной методологии и научной парадигмы, особенно в условиях начавшегося разложения старой парадигмы (прежде всего в теоретической физике).
Однако пока серьезные академические ученые именно в силу определенного давления научного общественного мнения не готовы к подобным шагам. Причем на Западе ситуация даже менее благоприятна, чем в России, где перестроечные и постперестроечные катаклизмы способствовали значительной ломке стереотипов, а образовавшийся методологический вакуум всегда чреват нестандартными теоретическими решениями. На Западе же ученый настолько скован страхом обвинения в непрофессионализме, что предпочитает сугубо конкретные эмпирические исследования смелым междисциплинарным прорывам и погружению во мрак теоретико-методологических проблем.
Читать дальше