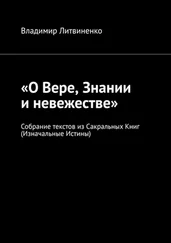Андрей Кураев - О ВЕРЕ И ЗНАНИИ
Здесь есть возможность читать онлайн «Андрей Кураев - О ВЕРЕ И ЗНАНИИ» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Религиоведение, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:О ВЕРЕ И ЗНАНИИ
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
О ВЕРЕ И ЗНАНИИ: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «О ВЕРЕ И ЗНАНИИ»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
О ВЕРЕ И ЗНАНИИ — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «О ВЕРЕ И ЗНАНИИ», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
 Вера предполагает личное отношение к предмету исследования, т. е., во-первых, свободно-волящее и потому не спровоцированное никакой нудительностью, во-вторых, личностное, т. е. именно мое, а не чье-то отношение к истине; в-третьих, установление отношений веры предполагает сущностную перемену меня как субъекта веры.
Вера предполагает личное отношение к предмету исследования, т. е., во-первых, свободно-волящее и потому не спровоцированное никакой нудительностью, во-вторых, личностное, т. е. именно мое, а не чье-то отношение к истине; в-третьих, установление отношений веры предполагает сущностную перемену меня как субъекта веры.
 Исходя из этого можно предложить такое определение веры: Вера — личностное самоопределение человека по отношению к имеющемуся у него знанию.Когда человек открывает, что некое знание (духовное и нравственное) не может быть им просто "принято к сведению", а требует от него жизненного ответа — этим ответом оказывается вера. Поэтому вера не нуждается в преобразовании в какую-либо форму "позитивного знания". Для верующего Бог — это очевидность, которая требует веры.
Исходя из этого можно предложить такое определение веры: Вера — личностное самоопределение человека по отношению к имеющемуся у него знанию.Когда человек открывает, что некое знание (духовное и нравственное) не может быть им просто "принято к сведению", а требует от него жизненного ответа — этим ответом оказывается вера. Поэтому вера не нуждается в преобразовании в какую-либо форму "позитивного знания". Для верующего Бог — это очевидность, которая требует веры.
 Верой человек проявившееся у него знание о Боге переносит волевым актом из периферии своего сознания и жизни в их центр
Верой человек проявившееся у него знание о Боге переносит волевым актом из периферии своего сознания и жизни в их центр [6] Для сравнения приведем две возможные реакции на одну обыденную информацию. Скажем, я знаю, что завтра решающий матч "Спартака". Поскольку я не являюсь болельщиком, услышанная случайно информация будет покоиться на окраине моего сознания, нисколько не задевая мои жизненные планы. Но совершенно иначе будет реагировать фанат, который лишь по забывчивости не знал, что завтра матч его любимой команды. Случайно услышанная фраза сразу встанет в центр его сознания и воли, и самым решительным образом перекроит все его планы на ближайший день: он будет искать билет, отменит одни встречи и будет созваниваться с другими своими единоверцами. Его действия будут определяться тем, что он не просто проинформирован о завтрашнем матче, но еще и верит в победу своей команды и желает е
Так разрешается кажущаяся противоречивость слов ап. Павла: "Я знаю, в Кого уверовал" (Тим. 1, 12).
 Вера — выбор аксиологии. Она узнает не о такой реальности, которой достаточно лишь "отразиться" в сознании субъекта. Вера вводит человека в присутствие императивов. Бог переживается не просто как космический Абсолют. Открытие Его присутствия нерасторжимо связано с императивом обновления и нравственного переворота
Вера — выбор аксиологии. Она узнает не о такой реальности, которой достаточно лишь "отразиться" в сознании субъекта. Вера вводит человека в присутствие императивов. Бог переживается не просто как космический Абсолют. Открытие Его присутствия нерасторжимо связано с императивом обновления и нравственного переворота [7] Понятно, что человек, не желающий относить к себе те нравственные императивы, о присутствии которых в христианстве он догадывается, будет отрицать любые доказательства в пользу веры и верить самым поверхностным доводам — против нее. Не лишне вспомнить в этой связи знаменитую остроту Мальбранша, предположившего, что если бы признание научных истин сопровождалось нравственными обязательствами, то и Пифагорова теорема сделалась бы предметом сомнений
.
 Поэтому и нельзя отстраненно говорить о Нем: "Есть НЛО, а есть Христос". Только так: вот есть я и только я, в своем одиночестве и абсолютной ответственности, и есть некая Реальность, обращающаяся ко мне или обращающая меня лицом к Себе. Вера — познание в форме признания. Вера признает, что моральный вызов, расслышанный ею от Бога, адресован ко мне.
Поэтому и нельзя отстраненно говорить о Нем: "Есть НЛО, а есть Христос". Только так: вот есть я и только я, в своем одиночестве и абсолютной ответственности, и есть некая Реальность, обращающаяся ко мне или обращающая меня лицом к Себе. Вера — познание в форме признания. Вера признает, что моральный вызов, расслышанный ею от Бога, адресован ко мне.
 Поскольку же принятие нравственного закона (или уточнение его, конкретизация) не есть событие, сильно облегчающее проживание в мире сем, то принятие дополнительного этического бремени не может произойти само по себе. У человека должны быть некие дополнительные и достаточно необычные мотивы для того, чтобы усложнять себе жизнь. Этим мотивом и является сам факт Встречи и пробужденное им чувство. Поэтому-то "Кто не может любить Бога — тот, конечно, не может и веровать в Него", по слову преп. Симеона.
Поскольку же принятие нравственного закона (или уточнение его, конкретизация) не есть событие, сильно облегчающее проживание в мире сем, то принятие дополнительного этического бремени не может произойти само по себе. У человека должны быть некие дополнительные и достаточно необычные мотивы для того, чтобы усложнять себе жизнь. Этим мотивом и является сам факт Встречи и пробужденное им чувство. Поэтому-то "Кто не может любить Бога — тот, конечно, не может и веровать в Него", по слову преп. Симеона.
 Там, где нет любви к Богу, Он воспринимается как источник тяжких и бессмысленных обременений и неверие приходит как ощущение свободы… Поэтому так важно не забывать правоту слов Паскаля: "Относительно человеческих вещей говорят, что их надо знать, прежде чем любить их. Святые, напротив, говорят о вещах божественных, что их нужно любить, чтобы познать". Вслед за Владимиром Зелинским можно сказать, что "вера — дар умной любви".
Там, где нет любви к Богу, Он воспринимается как источник тяжких и бессмысленных обременений и неверие приходит как ощущение свободы… Поэтому так важно не забывать правоту слов Паскаля: "Относительно человеческих вещей говорят, что их надо знать, прежде чем любить их. Святые, напротив, говорят о вещах божественных, что их нужно любить, чтобы познать". Вслед за Владимиром Зелинским можно сказать, что "вера — дар умной любви".
 Отношения между обретенным знанием о предмете веры и волевым актом могут быть разными. В одних случаях (и чаще всего) воля к вере имеет дело с уже хранящимся в душе знанием (человек "в принципе" признавал, что "что-то есть" и Евангелие по большому счету право, но не считал, что правота Евангелия имеет какое-то отношение лично к нему). В других же случаях воля к вере, пробудившись в человеке, понуждает его решительно менять само поле своего опыта и, значит, не успокаиваясь на "ощущении отсутствия Бога" (которое, кстати, не тождественно "отсутствию ощущения Бога"), искать новых смыслов, нового опыта. Сама же "воля к вере есть не что иное, как воля к вниманию, воля увидеть, заметить, воспринять то, что само по себе есть достоверная истина. Воля к вере есть воля направить взор на предмет духовного опыта и при этом напрячь духовный взор".
Отношения между обретенным знанием о предмете веры и волевым актом могут быть разными. В одних случаях (и чаще всего) воля к вере имеет дело с уже хранящимся в душе знанием (человек "в принципе" признавал, что "что-то есть" и Евангелие по большому счету право, но не считал, что правота Евангелия имеет какое-то отношение лично к нему). В других же случаях воля к вере, пробудившись в человеке, понуждает его решительно менять само поле своего опыта и, значит, не успокаиваясь на "ощущении отсутствия Бога" (которое, кстати, не тождественно "отсутствию ощущения Бога"), искать новых смыслов, нового опыта. Сама же "воля к вере есть не что иное, как воля к вниманию, воля увидеть, заметить, воспринять то, что само по себе есть достоверная истина. Воля к вере есть воля направить взор на предмет духовного опыта и при этом напрячь духовный взор".
Интервал:
Закладка:
Похожие книги на «О ВЕРЕ И ЗНАНИИ»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «О ВЕРЕ И ЗНАНИИ» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «О ВЕРЕ И ЗНАНИИ» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.