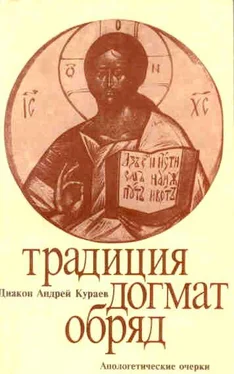Жизнь человека, конечно, никогда нельзя свести к чему-то одному. Она всегда сложнее. Сложнее, впрочем, не значит — богаче. И если во мне борются ветхий человек и благодать Христова — это несомненно означает, что моя жизнь сложна и неоднообразна. Но это же значит и то, что моя жизнь ущербна, ибо не вмещает в себя вполне богатство жизни во Христе.
Грех не разрешает дышать вполне. Он не позволяет долго вглядываться Ввысь. Он мешает идти. Традиция же не позволяет нам оставаться неподвижными, требуя нашего движения к Богу и вхождения в Него. “Бог есть Бог того, кто желает приобрести большее, если при этом принуждает себя ко всему,” — говорит старец “Древнего Патерика.” [10] Древний Патерик. М., 1899, С. 287.
Задача человека, как она опознается в Традиции, — вырасти за пределы мира. Бог призывает человека к “б ольшему”; и, напротив, погрязая в грехе, человек отказывается стать большим, чем он есть сейчас.
И открывается странная вещь: Православие, самая консервативная из христианских конфессий, в своем ригоризме и исключительном почитании монашества сохранило более молодое восприятие Евангелия, нежели конфессии, более успешно ведущие “диалог с современным миром.”
О том, сколь сердцевинное место занимает в православии созидание именно внутреннего облика человека, мы можем вспомнить словами преподобного Серафима Саровского, напомнившего, что пост, молитва, милостыня — не главное в духовной жизни, а лишь средства для стяжания Духа Святого. Мы можем обратиться и к мысли святого Феофана Затворника: “внешний строй Церкви и все порядки — богослужебные, освятительные и дисциплинарные, не суть главное, а служат только к выражению, воспитанию и ограждению внутреннего нравственно-религиозного строя христиан.” [11] Святой Феофан Затворник. Письма к разным лицам о разных предметах веры и жизни. М., 1892, С. 221.
Но где берет начало этот самый “строй”? Где найти чертеж, материалы и силы, необходимые для возведения той внутренней храмины, о которой русская поговорка говорит: “храм не в бревнах, а в ребрах.”
Человеку не дано воссоздать Церковь апостолов, он может лишь присоединиться к ней. Но для этого он должен прежде всего ее увидеть. Хомяков однажды определил Церковь как “единство Божией благодати, обитающей во множестве разумных творений.” Мысль по сути и верная и красивая, но слегка тавтологичная (Божия Благодать ведь и так едина) и слегка монофизитская (“Церковь есть благодать,” то есть Дух, тогда как на деле она как раз есть историческая, земная плоть — даже если вслед за апостолом Павлом Церковь понимать как “тело Христово”). Оставаясь с рамках хомяковских терминов, корректнее было бы сказать о Церкви как единстве разумных творений, свободно приемлющих действие Божией Благодати…
Но, следовательно, увидеть Церковь — значит увидеть людей, в которых сила Божия действует. “По тому узнают все, что вы Мои ученики… ”
Старец, отец духовный.
Древний монашеский афоризм говорит, что никто никогда не стал бы монахом, если бы однажды не увидел на лице другого человека сияние вечной жизни.
“Люди объезжают кругом весь свет, чтобы увидеть разные реки, горы, новые звезды, редких птиц, уродливых рыб, нелепые расы существ и воображают, будто видели нечто особенное. Меня это не занимает. Но знай я, где найти рыцаря веры, я бы пешком пошел за ним хоть на край света,” — признавался С. Кьеркегор. [12] Кьеркегор С. Страх и трепет. Ленинград, 1991. С. 28.
Предание, как уже говорилось выше, есть антропологический феномен. И совершается он в отношениях между людьми. Значит, первое, с чего начинается Предание — со встречи с человеком. В “Духовном луге” рассказывается о святом старце, который совершал Литургию с употреблением еретического Символа веры, но в сослужении ангелов. Встретив возражение со стороны православного, старец спросил ангелов — почему они сами не предупредили его об опасности. “Видишь ли, Бог так устроил, чтобы люди научались от людей же,” — был ему ответ. И поистине — “ Как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего ?” (Рим. 10:14).
Так что же именно передавалось от учителя к ученику в ходе проповеди и научения? “Главной целью было воспроизводство не текста, но личности учителя, новое, духовное рождение от него ученика. Именно это — живая личность учителя как духовного существа — и было тем содержанием, которое передавалось из поколения в поколение,” — резюмирует В. С. Семенцов. [13] Семенцов В. С. Проблема трансляции традиционой культуры на примере судьбы "Бхагаватгиты". // Восток-Запад. М., 1988. С. 8.
Читать дальше