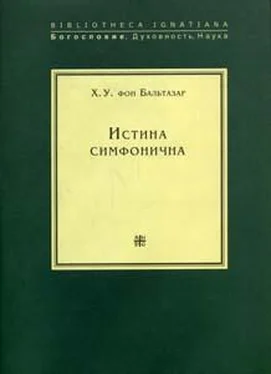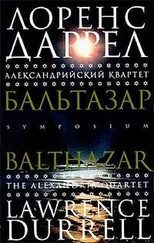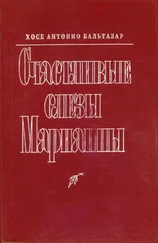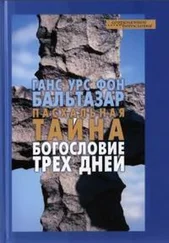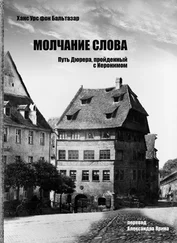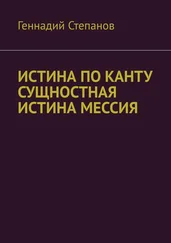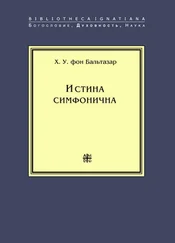Теперь проблема соотношения радости и креста становится лишь сложнее, поскольку из вышесказанного нельзя не сделать вывода, что всякое страдание — как Христа, так и христиан — в плане окончательного новозаветного откровения Бога следует воспринимать и оправдывать лишь как функцию радости. Таким образом страдание лишается своего последнего, самого страшного острия — его срезают примерно таким же образом, как делают это (вполне осознанно и намеренно) буддисты или стоики: посредством бесстрастия (apatheia), но тогда страдание в христианстве не следовало бы принимать всерьез. Если же отклонить это невозможное следствие, усматривая в Христовом кресте абсолютную серьезность богооставленности — а иначе и невозможно, коль скоро Христос сделался для нас «грехом» и «проклятьем» [31] В Синодальном переводе — «клятвой». — Прим пер.
(2 Кор 5, 21; Гал 3, 13, ср. Рим 8, 3), был «покинут ради нас» [32] Wiard Popkes: Christus traditus. Eine Untersuchung zum Begriff der Dahingabe in Neuen Testament. Zwingliverlag 1967.
, — и если, сверх того, он должен вести своих «последователей», олицетворенных учеником, ко кресту (Ин 21,19), по крайней мере, до той решающей точки, где крестные страдания начинаются всерьез: о какой вообще радости можно тогда говорить?
Можно попробовать разрешить эту дилемму в двух противоположных аспектах. Сначала попытаться понять крестные страдания Христа вкупе с его богооставленностью как парадоксальное выражение его радости, что было со всей серьезностью [33] Мы намеренно оставляем здесь без рассмотрения схоластическую теорию, согласно которой Иисус на кресте благодаря никогда не покидающей его visio beatifica страдал лишь низшей, душевной составляющей своей личности. Thomas STh III, q 46, а 7.
предпринято Альбером Франк-Дюкеном [34] Albert Frank-Duquesne: Ma Joie terrestre ou done es-tu? Etudes Carmelitaines 1947, 23–27. Иллюстрацией к мысли Дюкена могут служить слова Маленькой Терезы: «Если бы вы только знали, как велика моя радость — не испытывать никакой радости, чтобы радовать Бога. Это — чистейшая радость (de la joie raffinee), хотя ее совсем не ощущаешь» (Lettres 104). «Я не могу более страдать, ибо теперь всякое страдание мне сладостно» (Nov, Verba 1926, 20 f). «Поистине я достигла того, что не могу более страдать, потому что всякое страдание мне в сладость» (Geschichte einer Seele 1947,212). «На пути, которым я следую, не встречается никаких утешений, но сам он содержит всякое утешение» (Lettres 165). «Хотя это испытание лишает сколь-нибудь ощутимых наслаждений, я имею право воскликнуть: "Господи, ты переполняешь меня радостью обо всем, что ты делаешь!"» (Selbstbiographische Schriften 222 f).
. «Вопреки его отверженности, непостижимому и адскому одиночеству его последнего часа на кресте — нет сердца, столь переполненного истинной радостью, как сердце Иисуса… тайная дрожь радости пронизывает его. Как будто бы "ад" омраченной любви построил — по ту сторону всякого наслаждения, всякого эгоизма — подлинную, чистую и неприкровенную истину любви и потому — радости…. величественно-бездонной, божественно свободной и спонтанной, радости послушания, радости жертвенной любви, радости полной самоотдачи, радости, "отданной" Богу… Радость тем самым перестает быть чем-то "психологическим" и переживаемым, т. е. возникающим, случайным, акцидентальным, но становится "онтологичной", сущностной; она сама обосновывает бытие, трансцендирует и обожествляет [35] Op. cit. 24.25.31.32. В этом же направлении движется, пытаясь разрешить проблему, Pierre Ganne в его замечательной маленькой книге о Клоделе: Claudel Humour Joie et liberte, Edition de l'Epi 1966. Немецкий перевод: Die Freude ist die Wahrheit, Ein Gang durch das Werk Paul Claudels. Johannes Verlag 1968.
». Можно было бы увидеть в этих словах разрешение нашего вопроса, однако они настигают нас слишком стремительно: можно ли по-настоящему говорить о радости, когда она уже не ощущается непосредственно?
Попробуем подойти к нашей задаче с другой стороны, вспомнив учеников Иисуса: «Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие» (Деян 5, 41). Исходя из этой фразы можно попытаться истолковать слова Павла о себе: «Я сораспялся Христу» (Гал 2,19), а также те, в которых он перечисляет переживаемые им крайне тяжелые физические и духовные страдания: злословие, хулу, проклятья, презрительное отношение как к сору и праху (1 Кор 4, 10–13), несение страданий Христа в собственном теле (2 Кор 4, 10), стигматизация на теле (в каком бы смысле ни понимать ее, Гал 6, 17). Сопоставим это с другими его словами: «я исполнен утешением, преизобилую радостью, при всей скорби нашей» (2 Кор 7,4) — о тайном источнике его силы» Вообще скорбь и радость часто сочетаются в Новом завете: Мф 5, 13 и прлл.; Деян 7, 55 слл.; 1 Фес 1, 6.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу