(O'Connor 2002, 128).
4. Политический акт:
Однако слезы Плача Иеремии — это слезы потери и скорби, брошенности и возмущения. Эти слезы — знамя, знак, откровение боли и разрушения, выражение сопротивления миропорядку. Это также слезы освобождения, опустошения, очищения тела и духа (Leavitt, 84). Плачи признают ценность слез. Они обладают способностью концентрации горечи и боли и вынесения слез на поверхность и приятия их.
В воде слез рождается надежда. Они способны омыть пространство, ранее занятое отчаянием, яростью или грустью, и в этом пространстве без всякого приглашения может внезапно проявиться надежда. Надежда приходит вне зависимости от человеческой воли, решения или оптимизма
(O'Connor 2002, 130).
5. Учение о сопротивлении:
Призывая к тому, чтобы говорить правду перед лицом могущественных, демонстрируя язык, форму и практику сопротивления, Плач Иеремии призывает к сопротивлению и говорит о необходимости человеческого действия. Но что это может значить в богатой, безопасной стране, где мы как нация в целом страдаем от излишка могущества? Мой ответ прост. Не научившись справляться с собственным отчаянием, потерями и гневом, мы не сможем в полноте обрести собственную человечность, дать волю своим заблокированным переживаниям или прийти в своей жизни к подлинной общности с другими. Плач распутывает сложные узлы скорби, отчаяния и жестокого гнева, пронизывающих это общество — общество, отрицающее свою раненность, слабость и боль. Нам необходимо найти доступ к нашим переживаниям, чтобы стать подлинно моральными существами. Призывая нас одновременно к погружению в себя и к выходу наружу, Плач может растопить наш замороженный и онемевший дух
(O'Connor 2002, 131).
В конце концов, слезы обладают силой обновления:
Плач Иеремии, в частности, и плачи вообще способны помочь слезам выйти наружу. В них отражается страдание и открываются раны. Они выводят на свет болезненные воспоминания и вызывают непроизвольную телесную реакцию плача… В доминирующей культуре Соединенных Штатов мы обычно рассматриваем стоицизм, проявляемый как на людях, так и наедине с собой, как признак силы и достоинства, вне зависимости от того, какую потерю испытал человек… Мы часто преуменьшаем значение слез, считая их признаком слабости и неадекватности, чем–то, что позволено только женщинам и детям. Возможно, причина этого в том, что если бы поощрялся мужской плач, если бы мужчины и женщины, занимающие высокое положение, плакали, то у них открылся бы доступ к полноте своей человечности и мир изменился бы. Слезы — сила, а не слабость
(O'Connor 2002, 129).
Этот призыв дать волю слезам нигде не звучит так остро, как в этой книге. Таким образом, событие 587 года потребовало полного отказа от того, что было раньше, и живой готовности двигаться дальше. Однако само событие 587 года не могло добиться ни этого отказа, ни этой готовности. Они могли возникнуть лишь в словах поэта, которые затем стали словами общины и которыми затем, намного позже, она в своей «еврейской щедрости» могла поделиться со многими другими пребывающими в беспокойстве общинами, способными погрузишься достаточно глубоко, по ту сторону отрицания, и обновиться, несмотря на все отчаяние, что возможно лишь через посредство дисциплинированного, свободного, честного высказывания, влекущего за собой открытость к новому,., но не слишком скоро.
Особое внимание следует уделить двум текстам. Первый, 3:21–24, — это текст, к которому неизбежно обращаются читатели в поисках надежды, — в особенности, те из христиан, кому необходимо преодолеть потерю. В этих стихах содержится единственная формулировка надежды на будущее во всей книге. Эта надежда основана, для автора–поэта, на обращении к старой традиции веры, кристаллизованной в Исх 34:6–7. Здесь утверждается непоколебимая верность ГОСПОДА вопреки любому противоречащему ей по видимости обстоятельству, такому как пленение. Соответственно, текст настаивает на твердой преданности ГОСПОДА Израилю в самой бездне, из которой Он выведет его к лучшему будущему. Неудивительно поэтому, что христианский читатель испытывает притяжение к этому тексту, поскольку содержащееся в нем утверждение подобно пасхальной вере, теплящейся в глубине смертельной скорби Страстной Пятницы. И действительно, Бревард Чайлдс рассматривает эти стихи как ключ к истолкованию всей книги:
В ст. 22–24 стихотворец исповедует свою веру в Божье милосердие. Его формулировка заставляет вспомнить о традиционных «символах веры» Израиля (Исх 34:6слл., Числ 14:18, Пс 85:15). В ст. 25–30 следует еще одно исповедание веры, более близкое к такому образцу литературы премудрости, как Пс 36. Тема Божьего милосердия подхватывается далее в форме наставления, весьма типичной для плача, и, наконец, завершается серией риторических вопросов (ст. 37–39).
Читать дальше
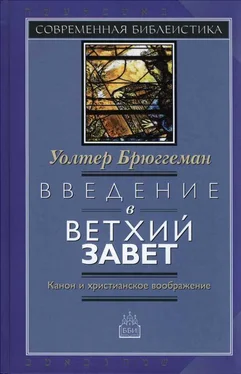

![Ветхий Завет - [Книга Иудифи]](/books/20931/vethij-zavet-kniga-iudifi-thumb.webp)






