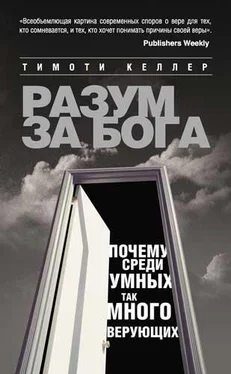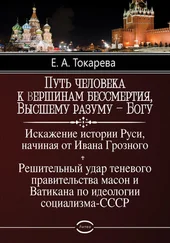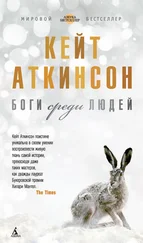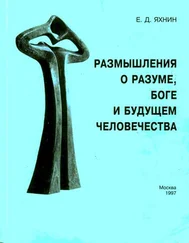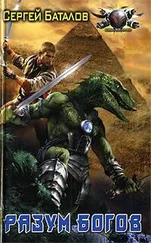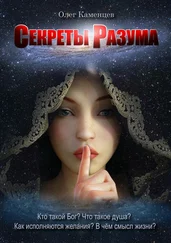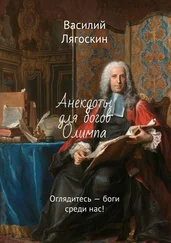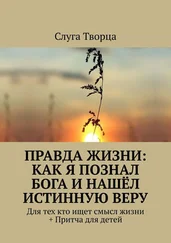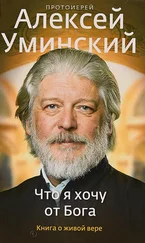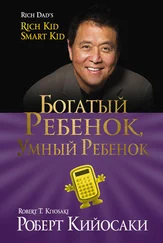Фуко навязывал истинность своего анализа другим людям, хотя и отрицал саму категорию истинности. Значит, некоторые виды притязаний на истинность выглядят неопровержимыми. Непоследовательность борьбы против угнетения, когда мы отказываемся признать существование истины, – вероятно, и есть причина, по которой постмодернистская «теория» и «деконструкция» находятся в упадке [66] К. С. Льюис, Человек отменяется (С. S. Lewis, The Abolition of Man, Collins, 1978), c. 48.
. Г. К. Честертон высказал такое же замечание почти сто лет назад:
Нынешний мятежник – скептик, он ничего не признает безусловно… и потому не может быть подлинным революционером… Любое осуждение предполагает какую-то моральную доктрину… Короче говоря, современный революционер, будучи скептиком, все время подкапывается под самого себя. Бунт современного бунтаря стал бессмыслен: восставая против всего, он утратил право восстать против чего-либо… Вот мысль, которая останавливает работу мысли, И это единственная мысль, подлежащая запрету [67] Эмили Икин, «Новейшая теория: теория не играет роли» (Emily Eakin, “The Latest Theory Is That Theory Doesn't Matter”, New York Times, April 19, 2003), и «Теория всего, покойся с миром» (“The Theory of Everything, RIP”, New York Times, October 17, 2004). См. также Динишиа Смит, «Теоретики культуры, начинайте эпитафии» (Dinitia Smith, “Cultural Theorist, Start Your Epitaphs”, New York Times, January 3, 2004).
.
Сообщество не может охватывать всех
Христианство требует от членов своего сообщества конкретных убеждений. Оно открыто не для всех. Это путь к социальной разобщенности, утверждают критики. Сообщества людей должны предназначаться для всех, быть открытыми для всех на том основании, что все мы люди. Сторонники подобных взглядов указывают, что во многих городских районах соседствуют представители разных рас и религий, тем не менее уживающиеся вместе и образующие одно сообщество. Все, что для этого требуется, – чтобы каждый уважал частную жизнь и права остальных и работал ради равного доступа к образованию, рабочим местам, возможности принимать политические решения. В условиях либеральной демократии общие нравственные принципы считаются необязательными.
Увы, изложенные выше взгляды чрезмерно упрощены. Либеральная демократия опирается на обширный список допущений: приоритетность индивидуальных прав перед общественными, разграничение частной и общественной морали, святость личного выбора. Все эти убеждения чужды представителям многих культур [68] Г. К. Честертон, Ортодоксия (G. К. Chesterton, Orthodoxy: The Romance of Faith, Doubleday, 1990), c. 33, 41–42. Обоснованные выводы по обязательствам веры, лежащим в основе любой «либеральной демократии», см. в: Майкл Дж. Перри, Под Богом ? с. 36. См. также статью Стэнли Фиша «Проблемы с толерантностью» (Stanley Fish, “The Trouble with Tolerance”, Chronicle of Higher Education, November 10, 2006). Перевод Л. Б. Сумм. – Прим. пер.
. Значит, либеральная демократия, как и любое другое сообщество, опирается на общий набор весьма конкретных принципов. Основа западного общества – единые для всех его членов обязательства по основаниям, правам и справедливости, хотя их общепризнанного определения не существует [69] Аласдэр Макинтайр, После добродетели: исследование нравственной теории (Alasdair MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, 2nd ed., University of Notre Dame Press, 1984) и Чья справедливость? Какой рассудок? (Whose Justice? Which Rationality ? University of Notre Dame Press, 1988).
. Все представления о справедливости и разумности коренятся в системе неких конкретных убеждений о смысле человеческой жизни, которые разделяют далеко не все [70] По этой теме написано немало хороших книг, в том числе – Стивен Л. Картер, Несогласные среди тех, кем управляют (Stephen L. Carter, The Dissent of the Governed, Harvard University Press, 1999), c. 90. См. также Аласдэр Макинтайр, Чья справедливость, Какой рассудок? (Duckworth, 1987), Ричард Джон Нойхаус, Открытая площади: религия и демократия в Америке (Richard John Neuhaus, The Naked Public Square: Religion and Democracy in America, 2nd ed., Eerdmans, 1986), и Уилфред Макклей, «Два вида секуляризма» (Wilfred McClay, “Two Kinds of Secularism”, The Wilson Quarterly, Summer 2000). Непростой диалог по той же теме можно найти у Р. Оди и Н. Вольтершторфф, «Религия в общественных местах: место религиозных убеждений в политических дебатах» (R.Audi, N.Wolterstorff, Religion in the Public Square: The Place of Religious Convictions in Political Debate, Rowman and Littlefield, 1997). См.в главе 8 подробнее о мировоззренческой почве, необходимой для роста потребности в правах человека.
. Следовательно, идея общества, охватывающего всех и каждого, иллюзорна [71] Мишель Фуко указывал, что акцент, сделанный западным обществом на правах личности и «терпимости» к меньшинствам, женщинам и пр., сопровождается «теневым нарративом» отторжения. Как мы относимся к тем, кто не признает западную идею индивидуальных прав и частной жизни? Фуко указывает, что тех, кто ставит под сомнение современные представления о правах и их аргументацию, не клеймят как безнравственных еретиков (как в Средние века), а обвиняют в «неразумности» и «нецивилизованности». Подробные выводы по критике, высказанной Фуко в адрес так называемой западной «терпимости», см.: Мирослав Вольф, «Отторжение и принятие: богословское исследование идентичности, инакости и примирения» (Miroslav Volf, Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation, Abingdon, 1996), c. 58–64.
. Каждое человеческое сообщество придерживается неких общих убеждений, которые неизбежно создают границы, охватывают одних людей и исключают других.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу