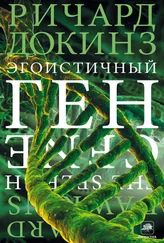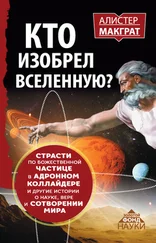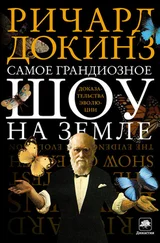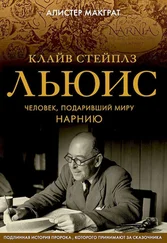Дарвин утверждает, что «большая картина» объяснения может быть предложена и принята без окончательного доказательства. В самом деле, можно указать, что природа исторического процесса такова, что прямая верификация невозможна; мы вынуждены апеллировать к выводам. Это не делает ошибочным этот подход в отношении научного объяснения. Это просто означает, что уровень и надежность объяснения определена предметом рассмотрения. Это одна из фундаментальных тем научного богословия: онтология определяет эпистемологию. Образ вещей определяет то, как именно они могут быть познаны и насколько хорошо они могут быть познаны. Докинз, кажется, применяет совершенно непригодный критерий надежности для вопросов «большой картины». Но какой же критерий может быть предложен, чтобы определить, что является «наилучшим» объяснением? Харман замечает, что «такое суждение будет основано на рассмотрении суждений, какая гипотеза проще, какая наиболее правдоподобна, какая больше объясняет, какая пригодна для данного случая и т.д.» [42] [42] Harman, «Inference», 89. Теории могут быть описаны как пригодные для данного случая, если они разрабатываются для специфической и ограниченной цели объяснения известных явлений (иногда рассматриваются как «ретродукция»). Они контрастируют с предсказательными теориями, которые порождают новые предсказания, которые не содержатся в известных наблюдениях.
. Это не означает, что она должна быть признана. Заметим, что критерии, представленные здесь, могут противоречить друг другу [43] [43] Как указывает Gerd Buchdahl, «History of Science and Criteria of Choice». In Minnesota Studies in the Philosophy of Science, edited by Roger H. Steuwer, 204-30. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1970.
. Расширение теории для того, чтобы она была способна объяснить больше, обычно вовлекает дополнительные гипотезы, которые делают теорию менее простой. Далее, как акцентирует Ненси Картрайт, часто существует обратное отношение между простотой теории и ее способностью представления мира [44] [44] Nancy Cartwright, How the Laws of Physics Lie. Oxford: Clarendon Press, 1983.
. Тщательная проверка развития научной теории делает весьма трудным вывод, определяют ли общепринятые критерии то, какое объяснение «лучшее». Простой факт заключается в том, что «лучшее объяснение» является существенно прагматическим понятием [45] [45] Как полагает Bas van Fraassen, «The Pragmatics of Explanation». American Philosophical Quarterly 14 (1977): 143-50.
.
Христианские апологеты утверждают, что «лучшее объяснение» мира - то, которое говорит о нем как о действии Бога Творца. Они склонны занимать позиции, которые можно разделить на две группы: «Бог промежутков» и «большая картина». Первый чаще всего находит отражение в популярной литературе, когда утверждается, что наука неспособна предложить полное рассмотрение мира. Существуют бреши в нашем понимании. Утверждается, что недостатки в объяснении могут быть объяснены посредством апелляции к Богу. Я предложил этот карикатурный подход главным образом потому, что я убежден в его недостатках, почему я и не защищаю его. Он является весьма уязвимым - большей частью вследствие непрекращающегося прогресса науки, имеющего тенденцию к заполнению брешей. «Естественное богословие» Уильяма Пэйли (1802) является характерным примером такого подхода и со всей очевидностью уязвимо, даже если некоторые из его критиков и указывали, что подобный подход можно спасти. Джеймс Мур показал в своем массивном и определенном христианском ответе Дарвину, что было много тех, кто верил, что явные недостатки рассмотрения Пэйли биологической жизни (и, что более примечательно, понятия «совершенной приспособленности») были в действительности исправлены дарвиновским понятием естественного отбора [46] [46] James R. Moore, The Post-Darwinian Controversies: A Study of the Protestant Struggle to Come to Terms with Darwin in Great Britain and America, 1870-1900. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
.Что еще более важно, некоторые авторы отказались от акцента Пэйли на специфической адаптации (используя термин Дарвина, неизвестный Пэйли) и предпочли сфокусировать внимание на том факте, что эволюция руководствуется совершенно определенными законами - очевидное применение к биологии общего подхода, развитого в средневековье Аквинатом. То, что эволюция осуществляется на основе определенных принципов, само по себе было косвенным подтверждением божественного вмешательства в этот процесс.
Но все же существует и вторая альтернатива, которая, я полагаю, гораздо более интересна. Она построена на точке зрения, которую мы находим у многих авторов XX в. - таких как Альберт Эйнштейн и Людвиг Виттгенштейн. Понятность вселенной сама по себе требует объяснения. Это уже не брешь в нашем понимании мира, но сама всеохватность понимания, которая требует объяснения. Этот подход является, по моему мнению, гораздо более предпочтительным. Он избегает очевидно фатальной проблемы исторической эрозии: что не может быть объяснено сегодня, может быть объяснено завтра. Но причины, по которым я предпочитаю эту позицию, не являются чисто прагматическими: они укоренены в убеждении, что вера в Бога обладает объясняющей жизненностью. «Я верю в христианство», писал К.С. Льюис, «как я верю, что солнце взошло, не только потому, что вижу это, но потому, что я вижу и все остальное» [47] [47] C. S. Lewis, «Is Theology Poetry?» In C. S. Lewis: Essay Collection, 1-21. London: Collins, 2000, quote at 21.
. В заключении своего эссе «Является ли богословие поэзией?» этими словами Льюис высветил одну из многих трудностей, связанных с научным мировоззрением: оно было вынуждено предполагать эти выводы.
Читать дальше