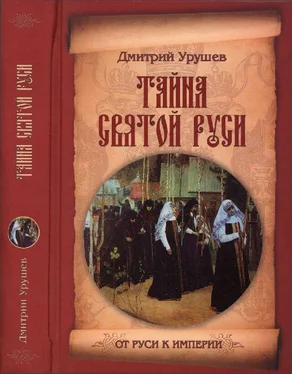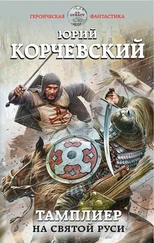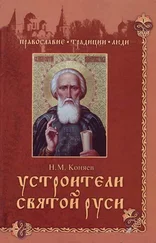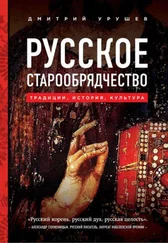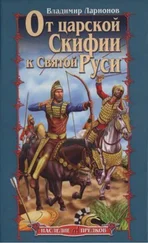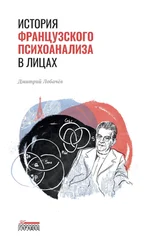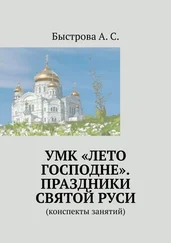Другим старообрядческим епископом середины XVIII века был владыка Феодосий. Он, как и Епифаний, не оставил следа в церковной истории. Казак, природный старовер, Феодосий был посвящен в епископы для гребенских казаков-старообрядцев, живших на Кубани, в ту пору принадлежавшей Крымскому ханству — вассалу Оттоманской империи. Его рукоположил по просьбе казаков и по настоянию властей греческий архиепископ Гедеон Крымский. Умер Феодосий, не оставив преемника.
Вторая задача поисков епископа (программа максимум) заключалось в том, чтобы найти на Востоке православную страну, где в неприкосновенности сохранилось «древлее благочестие» и Церковь. В XVIII веке слухи о таких благословенных землях достигали староверов. Одни говорили, что истинная Церковь процветает в Опоньском царстве (в Японии), что стоит на море-океане. Другие утверждали, что служба по старому обряду совершается в храмах Камбайско-Бел овод ского царства (где-то в Центральной Азии).
Эти благочестивые сказания сродни средневековым западноевропейским преданиям о государстве пресвитера Иоанна — христианской стране, расположенной где-то далеко на востоке. В основе европейских и русских легенд лежат неточные сведения о древних общинах христиан-сирийцев на юге Индии (т. н. «христиане апостола Фомы»).
Иногда на Руси появлялись люди, якобы побывавшие в Опоньском царстве или Беловодье. Иногда оттуда приходили письма, живописующие торжество истинной веры, благолепие храмов и истовость служения православных патриархов и епископов. А в конце XIX века по России разъезжал Антон Пикульский — сын коллежского асессора из Великого Новгорода, выдававший себя за «архиепископа Аркадия».
Пикульский уверял староверов, что был рукоположен в городе Левеке, столице Камбайско-Беловодского царства, патриархом Мелетием при царе-короле Григории Владимировиче. Но «архиепископ Аркадий» не сумел приобрести приверженцев и остался анекдотической фигурой в истории «древлего благочестия» [147] Подлинное следственное дело Антона Пикульского хранится в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА. Ф. 1431. On. 1. Ед. хр. 4153)
.
Пикульский был не первым самозванцем, смущавшим староверов. В 1749 году в Стародубье объявился иеродиакон Амвросий из подмосковного Новоиерусалимского Воскресенского монастыря, выдававший себя то за священноинока Афиногена, то за епископа Луку, якобы находившегося при особе низложенного малолетнего императора Иоанна Антоновича.
Самозванец был разоблачен, в 1753 году бежал в Польшу, перешел в католичество, поступил на военную службу и даже женился. Скоро о нем все забыли, кроме другого авантюриста — иеромонаха Анфима, получившего от Амвросия «епископскую хиротонию». Анфиму повезло меньше, чем его самозванному предшественнику: в 1757 году казаки утопили его в Днестре.
Некоторые староверы, разочарованные и утомленные безрезультатными поисками епископов, стали поговаривать о том, что надобно идти на компромисс со светскими и духовными властями и просить себе епископа и священников от Синодальной церкви.
В 1799 году несколько купцов, прихожан Рогожского кладбища, подали прошение московскому митрополиту Платону (Левшину, 1737–1812) о дозволении получать попов от официальной Церкви. При этом старообрядцы ставили Платону особые условия.
Прежде всего они просили, чтобы Синод снял проклятия, наложенные на старые обряды. Они также хотели, чтобы их храмы освящались по старопечатным книгам, чтобы непременно по этим книгам рукополагались их священники. Еще они просили, чтобы их духовенство не требовали на общее моление с никонианами.
Митрополит Платон согласился удовлетворить просьбу купцов, но с добавлением своих условий. Он потребовал, чтобы никто из новообрядцев не мог присоединяться к новой Церкви и не смел принимать в ней причастие («разве то в крайней нужде, в смертном случае»).
Платон был уверен, что в старых книгах находятся «погрешности от нерадения и невежества», поэтому пренебрежительно относился к новообразованной Церкви, как к сборищу полуграмотных мужиков. Он не считал ее полноценной Церковью, а ее таинства — действительными.
Впрочем, митрополит уже не мог презрительно именовать членов этой Церкви «раскольниками». Поэтому он назвал их «единоверцами», не считая вполне православными. Так возникло единоверие (Единоверческая или Новоблагословенная Церковь).
В начале XX века публицист-старовер В.Г. Сенатов заметил: «Старообрядчество есть глупость, которую нужно выводить — вот тайная, психически верная и исторически ужасная мысль, которою руководствовался митрополит Платон при утверждении единоверия… Благодаря этому история единоверия представляет собою историю сидения на двух постоянно раздвигающихся стульях» [148] Сенатов В.Т. Философия истории старообрядчества. С. 15.
.
Читать дальше