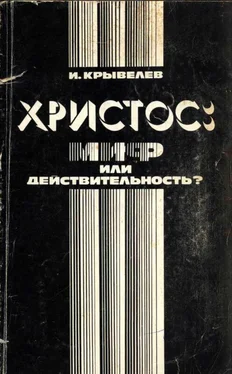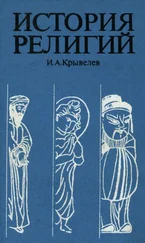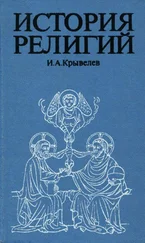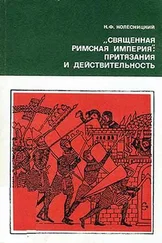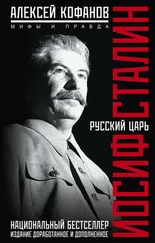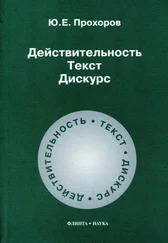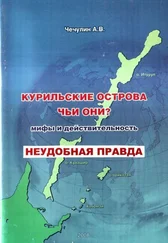Как быть с тем, что евангельский образ Иисуса был в дальнейшем сильно изменен наслоениями «теологии общины»? В решении этого вопроса Альтхауз не согласен с точкой зрения представителей либеральной теологии. Они утверждают: «То, что сделала теология общины из Иисуса, это чужеродное и имеет мало общего с самим Иисусом». Они призывают «назад от догматической теологии общины к простой проповеди Иисуса о царстве, об отце небесном, о вечной жизни души! Назад, прежде всего от Павла к Иисусу, к подлинному Иисусу, чей образ и миссия могут быть восстановлены в очертаниях раннего христианства! Назад от догмы к вне догматическому человеку из Назарета!» [202] P. Althaus. Op. cit., S. 12–13.
. Этот лозунг Альтхауз отказывается поддержать, хотя он «звучит очень громко уже целых полстолетия и сейчас выступает вновь». Не без оснований богослов заявляет, что «либеральный образ внедогматического пророка Иисуса есть абстракция и конструкция» [203] Ibid., S. 12.
. Ему больше импонирует как раз тот образ, который пришел от теологии общины. В нем он находит истинную действительность Иисуса Христа не в абстракции некоего недогматического «исторического Иисуса», а в проповеданном Христе первохристианской миссии. Если можно что-нибудь понять в этих неопределенных формулах, то, очевидно, здесь провозглашается призыв к тому, чтобы, не мудрствуя, принимать сложившийся традиционный образ Христа.
С одной стороны, Альтхауз вынужден признать печальную истину: «Состояние источников таково, что ни хронологию жизни Иисуса, ни ее прагматическое изложение мы дать не можем… Мы видим всегда Иисуса только сквозь некую завесу…» С другой стороны, сквозь указанную завесу «мы в состоянии решающие черты облика Иисуса достаточно отчетливо проследить» [204] Ibid., S. 15.
. Правда, только в «духовном смысле», ибо речь идет дальше только о чертах морального облика богочеловека, а не о его реальном человеческом историческом образе. Говорится и о «чертах образа, самосознания, миссии, обхождения с людьми и т. д.», но и здесь делается ставка не на «определенные высказывания», а на «его общее поведение и деятельность». Эту уклончивую и скользкую словесность сам Альтхауз называет «косвенной христологией» [205] Ibid., S. 17.
.
Когда нет оснований и материала для прямой постановки вопроса и его столь же прямого решения, на которое у богослова не хватает элементарного мужества, приходится прибегать к «косвенным» методам. Особенно богатые возможности открываются в этом отношении субъективистской казуистикой вокруг понятия исторической достоверности. Альтхауз не упускает эти возможности. Он утверждает, что и недостоверное (unecht) может обладать достоверностью (Echtheit). «Мы, — говорит он, — дифференцируем понятие достоверности, и те повествования и изречения, которые в смысле исторического исследования «недостоверны» и не передают того, что происходило в действительности, могут в некоем существенном смысле быть достоверными — в качестве выражения действительного значения происходившего или исторической личности. В этом плане достоверно все то, в чем отражается познанный смысл сущности и значения Иисуса Христа, как бы ни преломлялся он через индивидуальность свидетеля и способы выражения, характерные для его времени» [206] Ibid., S. 17–18.
.
Автор относит такую установку и к тем евангельским текстам, которые сам же именует неисторическими, беря это слово в кавычки. «Эти места, — говорит он, — должны читаться не исторически, а экспрессионистски: они выражают сущность и значение Иисуса способом поэтической наглядности истории» [207] Ibid., S. 18.
, каковой способ он считает преобладающим в евангельских повествованиях о последних днях жизни Иисуса. Такие неисторические повествования являются достоверными в более глубоком смысле, поскольку они стремятся выразить тайну бытия и пришествия Христа.
В каком-нибудь смысле всякое повествование является историчным — оно свидетельствует, по меньшей мере, о его авторах, о той общественной и идеологической атмосфере, в которой возникло. Но та историчность, которую здесь Альтхауз приписывает евангельским легендам, признавая в то же время их недостоверность, конечно, не заслуживает этого названия; об историческом Иисусе они ничего сказать не могут. А попытки богослова извлечь из них что-нибудь подобное отдают довольно явственной софистикой.
Значительно более сложной и продуманной выглядит эта система в построениях более «левых» кругов богословов-христологов, в особенности примыкающих к школе Р. Бультмана.
Читать дальше