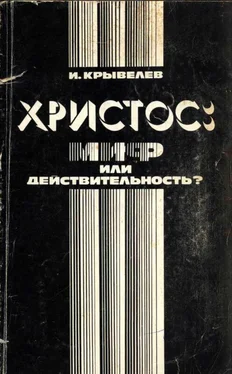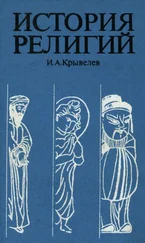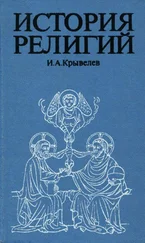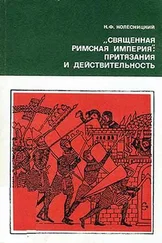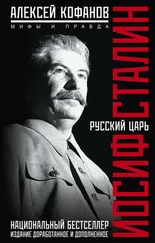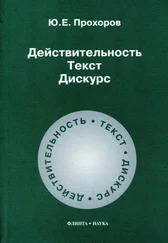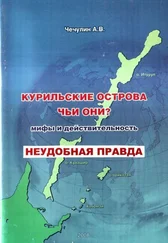Как известно, на этой евангельской легенде основано христианское таинство причащения, занимающее виднейшую роль во всем культе. Но Толстой дает ей совсем иное, притом очень простое истолкование. В его изложении Христос, предлагая апостолам хлеб и вино, говорит им: «Вспоминайте же меня за вином и хлебом; при вине вспоминайте кровь мою, которая прольется для того, чтоб вы жили без греха; при хлебе — о теле, которое отдаю за вас» [22] Там же, т. 23, с. 187.
. Простое воспоминание, ничего больше. А ведь по церковному учению, когда священником, проводящим обряд причащения, произносится соответствующая молитвенная формула, то тут же происходит чудо: хлеб превращается в тело Христа, а вино — в его кровь. Толстой находил самые ядовитые слова, чтобы поиздеваться над этим, как он его называл, богоедским обрядом.
Единственное, что интересовало его в евангелиях и во всем христианстве— это то нравственное учение, которое можно из него извлечь. «Для меня, — писал он, — главный вопрос не в том, бог или не бог был Иисус Христос и от кого исшел святой дух и т. п.; одинаково не важно и не нужно знать, когда и кем написано какое евангелие и какая притча может или не может быть приписана Христу. Мне важен тот свет, который освещает 1800 лет человечество и освещал и освещает меня…» [23] Там же т. 24, с. 807.
. Нельзя здесь не поразиться непоследовательности мышления гениального художника. Он великолепно знает и много раз грозно и гневно обличает все те гнусности и жестокости, которые творились в течение этих 1800 лет людьми, считавшими себя просветленными учением Христа. Практически «свет, который освещает», ни в малейшей степени не улучшил ни нравственность, ни жизнь людей, и Толстому это хорошо известно. Но моралист закрывает глаза на это важнейшее, в сущности, решающее обстоятельство.
Страстно и последовательно пропагандирует Толстой тот путь жизни, те законы и нормы нравственного поведения, которые, по его мнению, оставил человечеству Иисус Христос. Кое-что и здесь ему приходится опустить, кое-что истолковать субъективно и произвольно. В итоге остаются пять заповедей, исполнения которых вполне достаточно для спасения души человеческой, причем это спасение Толстой толкует не в смысле избавления от адских мук, а как обретение человеком душевного покоя и радостей жизни. Вот пять толстовских заповедей: «1. Не сердитесь и будьте в мире со всеми; 2. Не забавляйтесь похотью блудной; 3. Не клянитесь никому ни в чем; 4. Не противьтесь злу, не судите и не судитесь; 5. Не делайте различия между разными народами и любите чужих так же, как своих» [24] Там же т. 24, с. 841.
.
Наиболее существенной из этих заповедей является четвертая. В запрещении сопротивления злу Толстой усматривал центральный пункт, фокус всего учения Христа. Оно, утверждал писатель, «связывает все учение в одно целое…, оно есть точно ключ, отпирающий все» [25] Там же т. 23, с. 315.
. В любой обстановке, при всяких условиях, если хотят причинить зло тебе, твоей семье или твоим детям, пусть даже слабому и беззащитному существу, пусть зло будет нападение разбойников или бешеной собаки, самое большее, что ты можешь сделать, это поставить себя на место того, который подвергся нападению. А если собака тебя или детей искусает, разбойник ограбит или убьет, никакой в этом особой беды не будет; важно, что ты не нарушил заповедь Христову.
И опять-таки Толстому некуда уйти от того упрямого факта, что до сих пор никто в истории человечества не следовал этой заповеди, хотя евангелия почитаются всеми ответвлениями христианства. Заповедь не действует! Толстой не может не признать этого, и он, вообще говоря, правильно указывает причину ее недейственности. Она может действовать лишь тогда, когда она «не есть изречение, а есть правило, обязательное для исполнения, когда она есть закон». Все-отпирающий ключ делает свое дело только в том случае, «когда ключ этот просунут до замка». А «признание этого положения за изречение, невозможное к исполнению без сверхъестественной помощи, есть уничтожение всего учения» [26] Там же.
.
Для того, однако, чтобы разобраться в существе дела, нужно задать следующий вопрос: почему евангельский призыв к непротивлению так и остался изречением, а не стал законом поведения людей? Виновато несовершенство человеческой натуры? Но какие есть основания считать, что в дальнейшем эта натура усовершенствуется настолько, что проповедь Иисуса, даже подкрепленная призывами Толстого, перейдет из области слов в самую жизнь и перестанет быть благим пожеланием?
Читать дальше