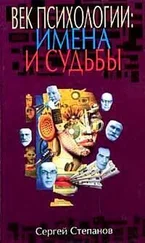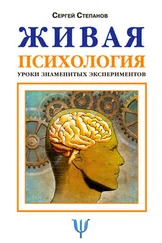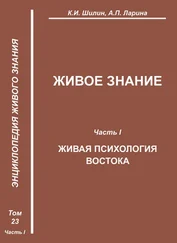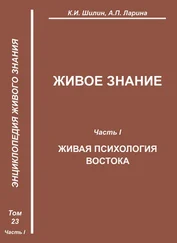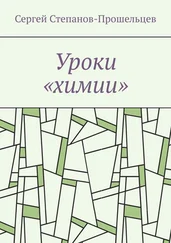Под впечатлением этих работ Дуэйн Румбо и его сотрудники начали диалог с шимпанзе через посредство компьютера (Кстати, последняя газетная сенсация на эту тему инициирована его супругой – Сью Сэвидж-Румбо). В комнате обезьяны помещалась панель ЭВМ, на клавишах которой были нарисованы лексиграммы (значки-обозначения действий и разных видов пищи или других поощрений, от щекотки до кинофильма – обезьяны, совсем как люди, приходят от того и другого в одинаковый восторг). Компьютер запоминал каждое предложение шимпанзе (например, последовательное нажатие клавиш: «пожалуйста», «машина», «показать», «кино») и «выполнял» просьбу, лишь когда она соответствовала «грамматике» – узаконенному порядку нажатий. Результаты оказались поразительными. Молодым шимпанзе Шерману и Остину удалось даже провести диалог через компьютер. Шерман, в комнате которого лежали инструменты, получал сигнал от Остина, находившегося в соседней комнате (у него не было инструментов, зато был закрытый ящик с пищей), передать определенный инструмент. Остин открывал с помощью этого инструмента ящик и делился добычей со своим собеседником. Румбо считал, что компьютер, который позволяет точно вычислить долю «речи» в хаосе случайных нажатий, объективнее, чем киносъемка жестового разговора обезьяны с человеком.
Надо сказать, что волна «языковых» проектов вызвала скептическую реакцию со стороны многих лингвистов и психологов. Объяснить это можно тем, что большинство из них в ту пору под влиянием теории Ноэма Хомского считали, что языковая способность человека задана в его генах и, подобно физиологическому органу, вырастает постепенно, по записанной в генах программе.
Некоторые критики обрушили на зоопсихологов убийственные аргументы: сравнивали обезьяний язык с человеческим, литературным – результатом тысячелетий исторического развития. Другие подошли к этому вопросу осторожнее. Например, Эрик Леннеберг предложил доказать на примере, что шимпанзе могут разговаривать. То, что обезьяны «называют» отдельные предметы, еще не о чем не говорит, полагал Леннеберг. Обычный условный рефлекс, на который способны и собаки, и голуби. Вот если скажем, обезьяна правильно расшифрует команду «Положить сумку и тарелку в ведро» (то есть поймет, что союз «и» относится к сумке и тарелке, а предлог «в» – к ведру), то можно говорить о каких-то зачатках языковых способностей.
Это, однако была единственная практическая рекомендация со стороны критиков. Неконструктивный скептицизм лингвистов породил ответную реакцию зоопсихологов. Так, профессор Колумбийского университета Герберт Террейс бросил вызов теории «врожденной языковой компетенции» Ноэма Хомского. В 1973 г. Террейс начал проект, героем которого стал шимпанзе с ироническим именем Ним Шимпский. «Я выбрал это имя, – писал Террейс, – в честь известного лингвиста, отстаивающего тезис о врожденности человеческого языка. Конечно, в глубине души я осознавал эффект, который мог возникнуть, случись Ниму в действительности создавать предложения». Полный оптимистических надежд, Террейс поместил обезьяну в лабораторию и начал интенсивные занятия с помощью глухонемых тренеров.
1979 год стал для участников языковых проектов с антропоидами годом идейного раскола. Его началом послужило «отступничество» Террейса.
Разбираясь в видеозаписях жестикулирующего шимпанзе, Террейс обратил внимание на жестовую речь обучающего человека. И тут открылось, что Ним в своих ответах повторяет большинство знаков, которые перед этим встречались во «фразе» тренера. Это прозвучало как гром среди ясного неба. Обезьяны не общаются с человеком, а просто «обезьянничают»! Обнаружив, что чем больше она подражает человеку, тем скорее получает лакомство, и вставляя подходящие для всех случаев жесты «Ним» и «мне», обезьяна фактически говорит по подсказке и создает впечатление диалога.
Предчувствуя, что ответственность за столь прозаичное объяснение может быть возложена на несовершенство его методики, Террейс проанализировал фильмы Гарднеров об Уошо и пришел к выводу, что Уошо тоже получал подсказку от своих учителей. Возмущенные Гарднеры не дали Террейсу разрешения использовать в своих докладах их материалы.
В мае 1980 г. в нью-йоркском отеле «Рузвельт» состоялась конференция, проходившая под эгидой Академии наук. Приглашенные на нее иллюзионисты и дрессировщики поставили зоопсихологов в довольно неловкое положение. Из всех придирчиво рассмотренных фактов вытекал неутешительный вывод: лингвистические эксперименты с антропоидами можно разделить на две категории – прямая подделка фактов и неумышленный самообман. Гарднеры предусмотрительно отказались от участия в конференции.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу