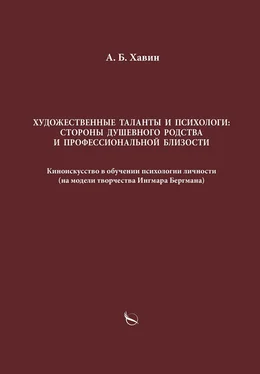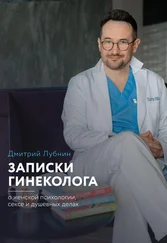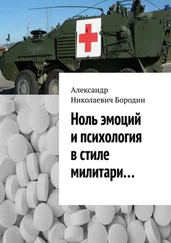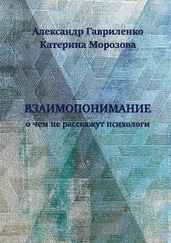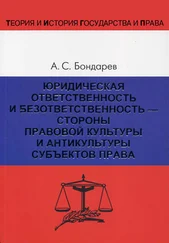Чиж восхищается тем, что Тургенев изобразил в своём рассказе все признаки вырождения, опередив знаменитого итальянского психиатра Чезаре Ломброзо (1835-1909). Среди этих признаков: неудержимая потребность в алкоголе, неспособность к труду и приспособлению к социальной среде, страсть к азартным играм и склонность к бродяжничеству, равнодушие к противоположному полу. Психиатру, по словам Чижа, и добавить нечего. Даже внешности Миши Тургенев приписал особенности, которые позднее Ломброзо выделил как признаки вырождения.
Дядя Миши недоумевал по поводу перерождения своего племянника. Отец Миши был старозаветный помещик, богобоязненный и степенный человек. Его мать – высокообразованная женщина, всецело поглощённая заботой о сыне. С отцом, правда, порой случались эпилептические припадки. Мать отличалась нервозностью: то пребывала в восторженном настроении, то предавалась меланхолии. Получалось, что наследственность героя рассказа отягощена со стороны обоих родителей.
Для Чижа эти детали были крайне важны. Подтверждали его убеждение, что не воспитание, а неблагоприятная наследственность играет решающую роль в возникновении психических заболеваний и в преступном поведении. Наш герой объяснял, тем не менее, причину своих пороков совсем иначе. И здесь тоже Тургенев исключительно проницателен. Дядя неоднократно спрашивал Мишу, «какой злой дух заставляет его пить запоем, рисковать жизнью». И Миша отвечал: «Тоска!» Дядя пытался уточнить: «Да отчего тоска?» – «Как, помилуйте! Придёшь, этаким образом, в себя, очувствуешься, станешь размышлять о бедности, о несправедливости, о России… Ну – и кончено! Сейчас тоска, хоть пулю в лоб! Закутишь поневоле». Некоторые вырождающиеся субъекты, как пишет Чиж, действительно имеют мрачное настроение, которое они называют тоской, и заглушают его алкоголем или морфием. При этом они объясняют своё пьянство возвышенными мотивами, когда причина его в неблагоприятной наследственности, их «патологической организации».
При спокойном состоянии общества субъекты, подобные Мише, по мнению Чижа, относительно безвредны. В эпоху брожения, напротив, могут представлять значительную опасность. Свою тоску они склонны объяснять общественным строем и для достижения неосуществимых идеалов готовы рисковать жизнью: «Жизнь для них, вследствие их патологической тоски, не имеет особой прелести, сознание их узко и всецело поглощено ограниченным кругом представлений».
В монографии о Тургеневе Чиж называет Тургенева пророком, впервые объяснившим безумные убийства, совершённые террористами. Он также приветствует начинание итальянского психиатра Ломброзо и его учеников, занявшихся изучением политических преступников и объяснивших нам, что «жажда истребления, тоска, неудовлетворённость» некоторых анархистов обусловлена их психопатологией. Тем самым В.Ф. Чиж косвенно высказался и о донкихотстве.
В раскрытии темы «Литература и психопатология», в объяснении закономерности создания писателями психопатических персонажей и пристрастии психиатров к психодиагностике этих персонажей существенное значение имеют два понятия: «психопатия» и «вечные образы» мировой литературы. Под психопатией в ХХ веке понимали врождённые и стойкие аномалии характера, патологический склад личности, препятствующий нормальной адаптации. Термин «психопатия» ввёл в 1891 году немецкий психиатр Юлиус Кох (1841-1908), чтобы смягчить широко используемый ранее диагноз «нравственное помешательство», подразумевавший преступность личности. Психопат, по Коху, вовсе не обязательно преступник.
Понятие «нравственное помешательство» сформулировал в 1835 году английский врач Джеймс Причард (1786-1848), имелась в виду патологическая склонность к нарушению моральных норм при относительной сохранности интеллекта. Это понятие глубинным образом связано с несоблюдением библейских заповедей и представлением о грехопадении, с выделением богословами по Библии семи смертных грехов (VI век, папа Григорий I): гордыня, алчность, зависть, гнев, похоть, чревоугодие, уныние (леность). Большинству психопатов свойственны такие черты характера, как завышенная самооценка, эгоизм, жадность, бессовестность, лживость, леность, неспособность к сопереживанию. Эти черты вызывают общественное осуждение и затрудняют адаптацию в социуме. Среди населения психопатов насчитывается 1-2%, среди преступников их гораздо больше, около 25%. В последние десятилетия, с возрастанием толерантности, вместо травмирующего диагноза психопатия ставится диагноз «специфическое расстройство личности», используется также синонимичное понятие «пограничное расстройство личности». Свидетельства о постоянно увеличивающемся количестве психических заболеваний недостаточно достоверны. Многое зависит от тщательности диагностических процедур и определённости диагностических критериев, а также от применяемых статистических методов.
Читать дальше