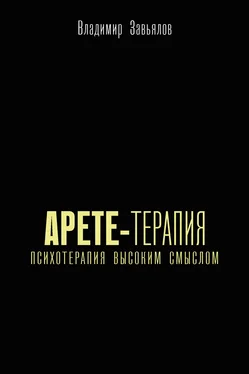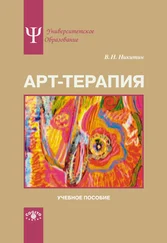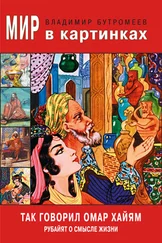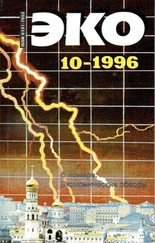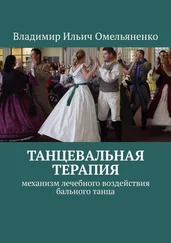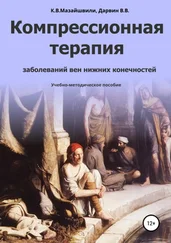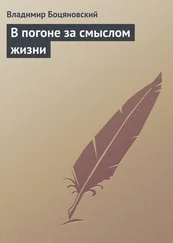В.: Да, начнём с Анатолия. Этот человек наиболее близок к тому, что мы называем «духовностью». Ему из мирских благ ничего не нужно, он ведёт образ жизни…
А.: Отшельника!
В.: Практически Анатолий действительно отшельник, хотя он не один в монастыре. Он ночует в кочегарке в одиночестве и трудится, трудится.
А.: Кроме тяжелой работы, никаких радостей у Анатолия нет. Он взял эту работу как послушание.
В.: Он работает и беспрестанно молится о прошении. Духовность на этом примере – это большая внутренняя работа просить о прощении. Но просить прощения не у людей, а у Всевышнего, у того, кто не может при жизни простить!
А.: Да. Вы точно сказали – Бог при жизни не прощает. Анатолий во время войны по наущению немецкого офицера и из страха смерти совершает военное преступление и смертный грех – стреляет в своего же командира. Он живёт с этим и молится о прощении. Когда он узнаёт, что он не убил своего командира, то это облегчения ему не приносит, прощения он не получает. Грех этот остаётся в душе Анатолия. Прощения у человека он не просит. Командир же приезжает к нему с просьбой вылечить его внучку, а Анатолия он сам давно простил.
В.: Да, это очень интересный эпизод – встреча с якобы убитым командиром. Почему Анатолий не обрадовался? Да потому, что у него был грех в душе, а не заблуждение ума, типа, «думал, что убил человека, а на самом деле только легко ранил». Никакого заблуждения ума не было. Он сознательно, хотя и в паническом страхе, стрелял в товарища, спасая свою жизнь. Немецкий офицер, словно бес, сунул ему пистолет с одним патроном и приказал стрелять в товарища. Воплощение бесовщины!
А.: Да, действительно, как бес, сунул кочегару в руку пистолет и стал искушать: либо ты выстрелишь, совершив грех, и останешься жить, либо погибнешь. Анатолий был искушён бесом. Он потом много раз говорил разным людям: «О, этого беса я хорошо знаю!»
В.: «Я с ним лично знаком!»
А.: Да, «лично знаком». Это не фигура речи, это подлинное искушение, которому поддался Анатолий.
В.: Встреча с бесом, освобождающим от смерти, но влекущим к смерти другого! Почему же Анатолий не обрадовался тому, что он всё-таки не убил никого? Мне кажется, потому что Анатолий взял грех убийства на себя самого за всех, кто убивал, как Иисус Христос, который взял на себя все грехи человечества и искупил их страданиями и собственной смертью. Анатолий, конечно, подражал Иисусу, только в своём человеческом масштабе, как мог. Анатолий через собственный личный грех вошёл в грех всех людей, поэтому он пытался освободить от греховности других людей, с которыми жил в монастыре и кто приезжал к нему за помощью и советом. Люди понимали, что отец Анатолий способен помогать избавляться от греховных мыслей и намерений, поэтому они шли и шли к нему. Вот молодая женщина, почти девочка, пришла к нему. Анатолий сразу понял, от чего та хочет освободиться – от беременности, которая возникла из-за мимолётной любви. Он очень быстро освободил её от греховных мыслей убить «сыночка». А на её жалобу о том, что никто её замуж не возьмёт с ребёночком, добродушно сказал: «Тебя и так никто не возьмёт. Вон, на роду написано. А ребёночек будет утешением! Всю жизнь себя проклинать будешь – невинное дитя убила». Сказал так проникновенно-искренне, что той стало всё сразу понятно: она свободна от греховных мыслей, но не свободна от беременности. Он очень хорошо знал, что такое грех, греховные мысли. Он знал, что можно каким-то образом освободиться от греховных мыслей – забыться, утопить их в вине, рационально оправдаться и т. д. Но от самой греховности это не освобождает.
А.: Да. Он узнал, что в кого он стрелял на войне, жив. Можно было сказать себе: «Ну всё, я свободен!»
В.: Или прийти к психотерапевту и рассказать, что много лет был в заблуждении, напрасно думал, что убил человека, и зря мучился. И психотерапевт, например, применявший рациональную психотерапию, сказал бы: «Ты стрелял? Стрелял. Хотел убить? Нет. Тебе вложили в руку пистолет? Вложили, насильно, под страхом смерти. Ты виноват? Нет. Ты был жертвой страшных обстоятельств войны». Это – рационалистическое оправдание греховного поступка. Ведь психотерапевт грехами не занимается. Это – личное дело самого человека, это составляет его свободу совести.
А.: Да. Это на сегодняшний день самое популярное средство освобождения от ответственности: «Бес попутал», «Поддался чужой воле», «Меня заставили», «Обстоятельства непреодолимой силы».
В.: Анатолий прекрасно знал, что есть «первородный грех». От него никому нельзя освободиться. Никакие индульгенции, раскаяния, оправдания не помогут. Надо учиться жить с этим. Как? Вот тут и надо определить, что такое «духовная жизнь человека»…
Читать дальше