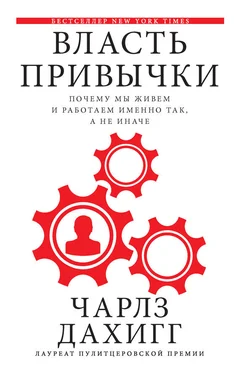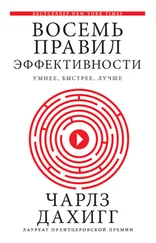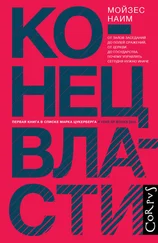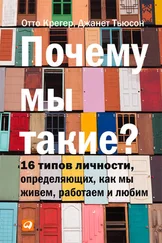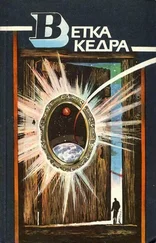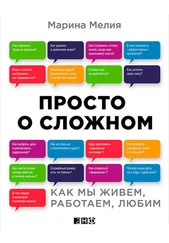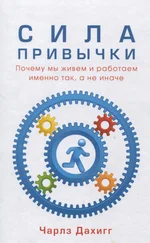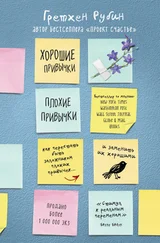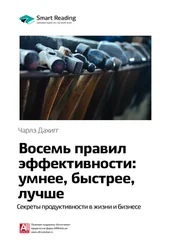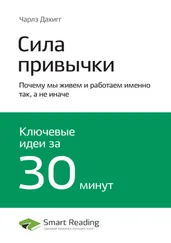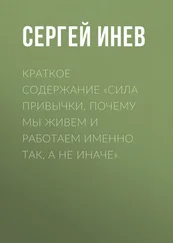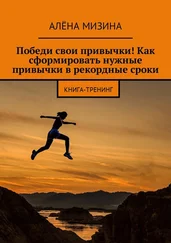Если звонящий вам незнаком, принять решение не составит труда. Зачем рисковать своим положением в компании ради человека, которого вы не знаете?
Если звонит ваш близкий друг, выбор тоже прост. Конечно, вы поможете. Для чего же нужны друзья?
А что, если этот человек – не близкий друг, но и не незнакомец, а нечто среднее? Что делать, если у вас есть общие друзья, но друг друга вы не знаете? Поручитесь ли вы за него, когда ваш начальник спросит, стоит ли приглашать его на собеседование? Другими словами, какую часть своей репутации и энергии вы готовы потратить на то, чтобы помочь другу вашего друга устроиться на работу?
В конце 1960-х годов ответить на этот вопрос вознамерился некий аспирант из Гарварда по фамилии Грановеттер. Ученый набрал 282 человека [256]и спросил, как они нашли свою текущую работу. Главным образом его интересовало, как они узнавали об открытых вакансиях, к кому обращались за рекомендациями, какими методами пользовались, чтобы попасть на собеседование, и, самое важное, кто протянул им руку помощи. Как и следовало ожидать, результаты показали: когда соискатели обращались за помощью к незнакомым людям, то получали отказ. Когда же они обращались к друзьям, то всегда получали помощь.
Как ни странно, соискатели часто получали помощь и от случайных знакомых – друзей своих друзей. Грановеттер назвал эти знакомства «слабыми связями» – они представляли собой отношения между людьми, которые имели общих знакомых, являлись членами одних и тех же социальных сетей, но не были напрямую связаны крепкими узами дружбы.
Фактически Грановеттер обнаружил следующее: при устройстве на работу слабые связи зачастую важнее сильных связей – близких друзей, поскольку слабые связи обеспечивают доступ к социальным сетям, к которым мы не принадлежим. Многие из людей, опрошенных Грановеттером, узнали о новых вакансиях благодаря слабым связям, а не от близких друзей, что совершенно логично, ибо мы разговариваем с ближайшими друзьями постоянно, работаем вместе с ними или читаем одни и те же блоги. Когда друзья узнают о новой вакансии, мы и сами о ней уже слышали. С другой стороны, наши слабые связи – люди, с которыми мы видимся от силы раз в полгода, – могут рассказать нам о работе, о которой иначе мы бы не узнали [257].
Изучив механизмы распространения мнений, сплетен и политических движений в обществе, социологи обнаружили общую закономерность: слабые связи и знакомства часто оказывают не меньшее – если не большее – влияние, чем связи с близкими друзьями. Грановеттер писал: «Люди с небольшим количеством слабых связей лишены доступа к информации из отдаленных частей социальной системы и вынуждены довольствоваться местными новостями и мнением своих близких друзей. Эти ограничения не только изолируют их от последних веяний и течений, но и могут поставить в невыгодное положение на рынке труда, где продвижение нередко зависит… от своевременного получения информации о подходящих вакансиях.
Кроме того, таких людей трудно организовать или вовлечь в политические движения любого рода… Хотя членов одной или двух групп набрать несложно, проблема заключается в том, что без слабых связей любой импульс не распространяется за пределы группы. В результате большая часть населения остается в стороне» [258].
Сила слабых связей помогает объяснить, каким образом протест группы друзей может вылиться в масштабное общественное движение. Трудно убедить тысячи людей преследовать одну и ту же цель – особенно когда это влечет за собой реальные проблемы (отправиться на работу пешком, сесть за решетку, а то и отказаться от утренней чашки кофе, ведь компания, которая продает этот кофе, не поддерживает органическое земледелие). Большинство людей не настолько сильно обеспокоены нарушением чьих-то там прав, чтобы отказаться от поездки на автобусе или дозы кофеина, пока в тюрьму не посадят их близкого друга. Поэтому существует особый инструмент, которым издавна пользуются активисты, чтобы вынудить людей протестовать даже в том случае, если они совсем не горят желанием это делать. Такая форма убеждения работала сотни лет. Это чувство долга.
Другими словами, давление общества.
Давление общества – и социальные привычки, которые побуждают людей соответствовать ожиданиям группы – сложно описать, ибо его форма и выражение крайне разнообразны. Эти социальные привычки не есть некая устойчивая модель. Скорее это десятки индивидуальных привычек, которые в конечном итоге заставляют всех двигаться в одном направлении.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу