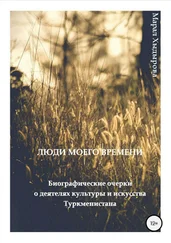Нарративная парадигма видит людей как рассказчиков историй – авторов и соавторов, – которые творчески читают и оценивают тексты из жизни и литературы. Она представляет существующие общественные установления скорее как проводники сюжетов, которые всегда находятся в процессе воссоздания, нежели как сценарии [31] Fisher W. R. The Narrative Paradigm: In the Beginning // Journal of Communication. 1985. Vol. 35. No. 4. P. 86. За указание на эту цитату и ее перевод, а также за ряд ценных соображений по проблематике данной главы выражаю искреннюю благодарность Ю. А. Черненко, написавшей под моим руководством магистерскую диссертацию.
.
Хотелось бы подчеркнуть, что в рамках данного исследования мы пользуемся терминами «нарратив» и «нарративный» в основном как синонимами понятий «повествование», «повествовательный», предпочитая в качестве основной категории рассматривать все-таки категорию сюжета. Это связано, с одной стороны, с целями настоящей работы, а с другой (в меньшей степени, но тоже существенно) – с предпочтениями и традициями исследовательской школы, к которой принадлежит автор. Нас занимают не столько закономерности построения нарратива, разновидности повествователей, роли персонажей, волнующие структуралистов, сколько повторяющаяся последовательность действий и мотивов, собственно, и образующая конкретный феномен блуждающего сюжета. Кроме того, именно понятие «сюжет» является опорным для филологической традиции, в рамках которой предмет нашего интереса исследован наиболее полно.
Любопытным является сам генезис научной постановки вопроса о наличии в культуре (мифологии, фольклоре, художественной литературе, театральном искусстве, рекламном креативе и т. д.) повторяющихся сюжетных мотивов и драматургических конструкций. Еще Аристотель в своей «Поэтике», используя вместо понятия «сюжет» родственный ему термин «фабула», указывал, что «действия и фабула составляют цель трагедии, а цель важнее всего. Кроме того, без действия не могла бы существовать трагедия, а без характеров могла бы» [32] Аристотель . Об искусстве поэзии. М.: Художественная литература, 1957. С. 59.
. И добавлял: «Прежде поэты отделывали один за другим первые попавшиеся мифы, ныне же лучшие трагедии слагаются в кругу немногих родов, например, вокруг Алкмеона, Эдипа, Ореста…» [33] Аристотель . Об искусстве поэзии. М.: Художественная литература, 1957. С. 80.
. Отметим, что в некоторых переводах «Поэтики» в начале последней цитаты используется термин «случайные фабулы» – в противовес тому, что «теперь», по мысли философа, они все более следуют некой повторяющейся идее и конструкции, описывая судьбу одних и тех же знаменитых героических родов. Однако для нас важнее его замечание о связи поэтических и драматургических фабул с мифами и прямое указание на то, что эти сюжеты, как правило, описывают судьбу героя и связанного с ним рода. В политической коммуникации, как мы увидим далее, блуждающие сюжеты тоже зачастую связаны с формированием архетипического образа (Героя в том числе) и служат своего рода «фоновой поддержкой» для конструирования соответствующего имиджа политика.
Много позже повторяющимися сюжетами немецких сказок заинтересовались их собиратели и систематизаторы братья Гримм. В результате родилась теория немецкой мифологической школы о том, что почвой зарождения поэзии служит языческая – в первую очередь, арийская и древнегерманская – мифология и что все современные сюжеты так или иначе можно свести к прасюжетам (как все языки мира так или иначе могут быть сведены к нескольким праязыкам). Теория эта вызвала немало критических откликов; скажем, филолог и феноменальный эрудит Т. Бенфей, создатель «миграционной теории» сюжетов (или, в другом варианте, «теории заимствований»), декларировал древнеиндийское происхождение всего сюжетного фонда, за исключением басен о животных, которые он возводил к Античности [34] См. об этом, например: Пропп В. Русская сказка. М.: Лабиринт, 2000. С. 140.
. Существовали и иные точки зрения на проблему; например, сторонники антропологической теории самозарождения сюжетов (А. Тайлор и другие) утверждали, что дело отнюдь не в заимствованиях; просто в сходных условиях жизни первобытных народов возникали сходные «абрисы» психических отражений, что и привело к известной повторяемости мифов, легенд, сказок и т. д. [35] См. об этом: Горский И. К. Об исторической поэтике Александра Веселовского // Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М.: Высшая школа, 1989. С. 12.
Подчеркнем здесь, что сам по себе вопрос о генезисе «общих» сюжетов, их миграции, причинах возникновения данного явления, способах культурного взаимовлияния и т. д. весьма сложен; многие теории, связанные с данным феноменом, прямо противоречат друг другу либо могут быть взаимопримиримы лишь весьма условно. Однако для нас важны в данном случае не столько детали, сколько общая закономерность существования и значимости подобного социокультурного и коммуникационного феномена. Не вдаваясь в тонкости литературоведческих дискуссий, отметим, что для нас главным остается признание различными исследователями существования сюжетов, переходящих «из века в век, из края в край» – и при этом не просто повторяющихся, но связанных с архетипической базой, с мифологией и фольклором разных этносов. Более того, сам А. Н. Веселовский словно предсказал перетекание интересующих его сюжетов и их «простейших повествовательных элементов», мотивов, в иные сферы человеческой деятельности и творчества, не только литературные:
Читать дальше
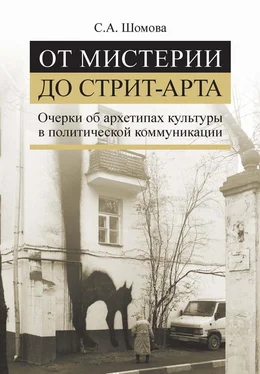
![Борис Дубин - Очерки по социологии культуры [сборник статей]](/books/34848/boris-dubin-ocherki-po-sociologii-kultury-sbornik-thumb.webp)