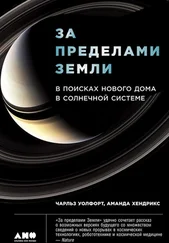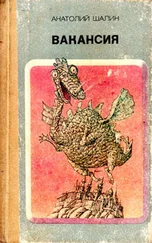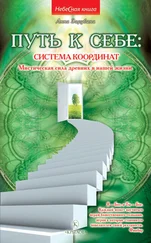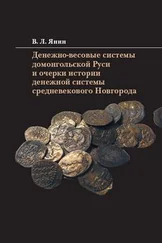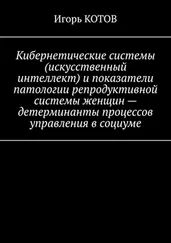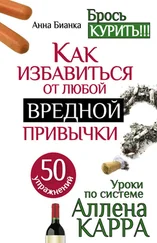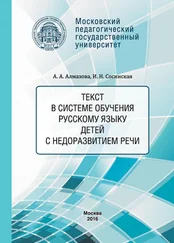Однако интерпретация так называемых свобод несет в себе и некоторую опасность, которую Э. Дюркгейм определил понятием аномия (в переводе с французского «anomie» – беззаконие, безнормность), характеризующаяся распадом общества, когда обнаруживается расхождение между целями деятельности и средствами их достижения.
«Многие случаи поведения, отклоняющегося от нормы, порождаются не просто «отсутствием возможностей» или преувеличенным подчеркиванием значения денежного успеха, – пишет Р. Мертон. – Антисоциальное поведение приобретает значительные масштабы только тогда, когда система культурных ценностей превозносит, фактически превыше всего, определенные символы успеха, общие для населения в целом, в то время как социальная структура общества жестко ограничивает или полностью устраняет доступ к апробированным средствам овладения этими символами для большей части того же самого населения» [4] Р. К. Мертон. Социальная структура общества.
.
Это может показаться абсурдным, но нередко аномии имеют следствием готовность людей, к примеру, лицемерить перед теми, кого даже не уважают, но вынуждены считаться с имеющимися у них ресурсами – властью, положением в обществе, богатством и т. д. То есть считается нормальным совершать унижающие человеческое достоинство поступки, потому что так заведено в обществе, потому что другие тоже считают это нормальным . По какой-то странной логике такой путь отождествляется с единственно возможным средством добиться «институционально не предусмотренных» благ. Более того, зачастую аналогичного уничижительного поведения становится принятым требовать от других, более слабых в статусном отношении, людей, принуждая их подносить кофе, делать незаслуженные комплименты и даже толкать на подлые поступки. Путая свободу совести с желанием порабощать, мы отвергаем ключевые принципы гуманизма, когда понятия братства и справедливости вызывают лишь иронию, а занимающие высокий пост люди, призванные управлять и направлять воспроизводство системы в конструктивное русло, лишь самонадеянно констатируют – «жизнь не fair play».
И вопрос даже не в нравственности или ее очевидном недостатке. Удивительно само желание людей принимать за нормальное то, что им на самом деле противно. Большинство из нас настолько верят в то, что от имеющего деньги варвара зависит их благополучие, что немедля продают ему душу, оправдывая собственные нелогичные поступки поведением большинства и выдуманным, до невероятности абсурдным, страхом «все это» потерять.
Как часто вместе с тем мы занимаемся собственными интересами? Да и считаем ли нормальным , не то что признаваться в наличии этих интересов другим, но и хотя бы просто чем-нибудь по-настоящему интересоваться? Как мы проводим свое свободное время? Следуя «кодексу» рекламы, чужих рекомендаций и желанию произвести впечатление на тех, кому до нас нет никакого дела? Или все же мы представляем из себя нечто большее, чем просто не отличаться от других себе подобных? Как мы используем свою свободу мыслить? Зачем она нам нужна, если все наши поступки отрицают ее необходимость?
Но ведь именно мы определяем, что есть «нормально». Если нас устраивает порабощать и быть поработимыми, если вы готовы отдаться на откуп внешним искажениям и чужим манипуляциям, можно вздохнуть спокойно и не утруждать себя дальнейшим чтением. Если же свободы и способности человека признаются непререкаемой нормой, если вы хотите разобраться, почему не все поддается строго рациональной логике, если готовы в поисках сверхвозможностей, выйти за пределы привычного, есть повод двигаться дальше.
Признаки проявления искажений
Для того чтобы лучше и нагляднее понять сущность феномена искажений, давайте для начала посмотрим, каким образом они себя проявляют. Это позволит уловить ту ускользающую разницу между свойственным устоям системы и действительным порядком вещей (заметьте, нередко мы называем порядком вещей именно то, что принято, и вовсе не обязательно подразумеваем, что данные порядки соответствуют предписанному в инструкциях или законах).
Сколь угодно долго можно обсуждать теоретическую многогранность феномена, но чтобы все сложилось в логичную и понятную картину, важно замечать подобные явления. Неслучайно, одно из самых древних ремесел мудрецов – созерцание. Особый смысл ему придавали именно за возможность увидеть окружающий мир таким, каков он есть. Специфика восприятия человека такова, что он видит лишь то, что может разглядеть. Но, интерпретируя увиденное, человек использует только тот арсенал средств, знаний и образных выражений, которым владеет сам. Попытка созерцания в чистом виде – это, прежде всего, вопрос во вне. Но возможно ли созерцание в чистом виде? Не будет ли оно искажено нашими ментальными установками, страхами, заблуждениями и стереотипами? Скорее всего, искажения неизбежны. Вспомните известный миф Платона о пещере, когда люди могли судить о реальном мире лишь по отражениям теней. Но мы ведь готовы с этим мириться, когда смотрим фильмы, слушаем музыку или просто беседуем. Можно рассказать миру о своих переживаниях – и это нередко называют творчеством, а можно попробовать узнать о происходящем в мире, но в известной степени отстраняясь от событий – и это уже будет научным исследованием. В современном мире вместо слова созерцание мы чаще используем термин – наблюдение. Но если вдуматься, принципиальной разницы нет. Как бы то ни было, нас интересует более то, ради чего мы наблюдаем за теми или иными событиями. В зависимости от того, как тот или иной феномен проявляет себя в процессе жизнедеятельности, можно пытаться судить о его свойствах, делать какие-либо заключения или использовать практические рекомендации.
Читать дальше