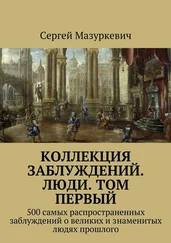Чтобы вообще начать в этом многообразии, в этой множественности вариантов как-то разбираться, следует в первую очередь отметить, что существует два основополагающих вида различений. Вертикальные различения показывают: одно лучше другого; в основе лежит принцип «лучше». Как неоспоримый факт, мы принимаем, что бывает хороший чай и плохой (подтверждением тому служит денежный эквивалент – стоимость). Качественные вертикальные отличия – в частности, в структуре психики – есть не что иное, как результат эволюции. Горизонтальные различения, напротив, показывают: нет «лучше» и «хуже», есть разное, другое; мы не отдаем предпочтений, не предпочитаем одно – другому. Нетрудно заметить, что все существующие доныне типологические системы принадлежат в своем большинстве к парадигме горизонтального различения. Таковой является, например, астрологическая система: двенадцать знаков зодиака, где Овен ничем не лучше и не хуже Скорпиона, etc. Овен, в сущности, понимается как некоторая универсальная территория, и все, рожденные под знаком Овна, становятся причастными определенному содержанию (получают определенное запечатление); то же самое верно для остальных знаков. Юнг и его последователи также предлагают чисто горизонтальную систему различения, состоящую из шестнадцати психотипов. Наиболее интересной задачей, однако, было бы пере-сечь горизонтальную и вертикальную (эволюционную) системы.
В юнгианской системе мы типируем людей, как нечто наличное. Цель горизонтальной типологии – понять, кто такой данный человек, и как он соотносится с другими (рожденными при ином положении звезд, воспитанными иначе, по-иному себя проявляющими в своем поведении). В эволюционной системе, напротив, не столь важно, чем отличается один человек от другого. В вертикальной системе человек понимается не как наличное, но как потенциальное событие. Важно, не кем он сейчас является, но кем он мог бы стать, во что он мог бы воплотиться, с какой (архетипической) ролью он мог бы отождествиться. По этому поводу Юнг говорит: «…душа есть не только одно или другое или – если угодно – и то и другое вместе, но она есть также то, что она из этого сделала или будет делать. Человек постигнут лишь наполовину, если известно, что из чего в нем произошло».
К вертикальной системе применима в полной мере метафора личинки: человек суть личинка, куколка, из которой что-то может произойти. Человек – это открытое событие, которое может меняться; у него есть потенциал куда-то двигаться, вертикально, – превосходить самого себя. Человек есть открытый вид – таковую открытость подразумевает, вероятно, и Хайдеггер, когда говорит, что человеку присуще «удерживание открытой некоторой области». Если мы создаем типологию человека как наличного предмета, обладающего теми или иными свойствами, то мы неминуемо создаем типологию личинок, – чем и являются, в основном, все типологии, – они типируют человека по его наличному «сейчас». Можно ли по универсуму личинки сделать вывод, какая бабочка из нее вылетит? В принципе нет, потому что личинки не похожи на те создания, которые из них происходят. Сверхзадача Типологии, поэтому, состоит в том, чтобы научиться видеть в личинке тот признак, по которому можно распознать скрытую внутри бабочку – имаго («идеальный образ»).
Человек на стадии личинки представляет из себя тот или иной набор социальных стандартов, предложенных ему миром. Проблема Типологии – не столько в классификации по стандартам, сколько в предвидящем указании на конечный результат. Обозначить путь, ведущий к бабочке – в этом главная ценность предмета Типологии. Каждая человеческая личинка, обращенная в неизвестное, втянутая в желание стать бабочкой, вовлекается в мир эзотерических действий. В какой-то момент она понимает, что является всего-навсего личинкой. И тогда происходит грандиозное событие: личинка начинает догадываться, что в ней есть еще нечто, что фактически находится за пределами ее существа, но, тем не менее, к ней таинственным образом причастно. Например, в традиционном религиозном контексте, акт открытия личинкой своих возможностей может выглядеть, как обнаружение некоторой реальности, стоящей за понятием души, психеи. Так раскрывается вера в душу: в нас есть нечто, что не имеет отношения к тем законам, что правят в мире, нечто «не от мира сего», не из этого мира. Личинка начинает догадываться о своих возможностях преображения, у нее возникает интерес к поиску выхода из себя, в превосходящее себя состояние сознания. И это превосхождение – не игра случайностей, но вполне конкретный духовный путь, обозначенный соответствующей конфигурацией и распростертый по направлению к цели.
Читать дальше
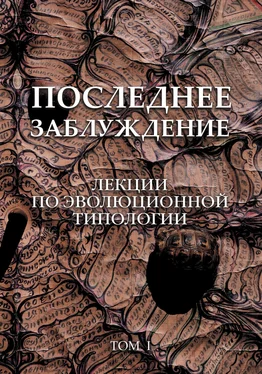

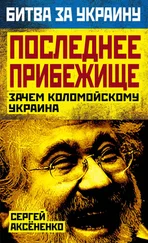
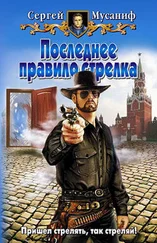
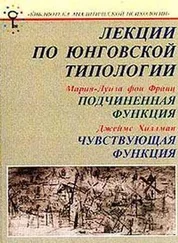
![Сергей Вишневский - Последнее «Па» [СИ]](/books/430281/sergej-vishnevskij-poslednee-pa-si-thumb.webp)