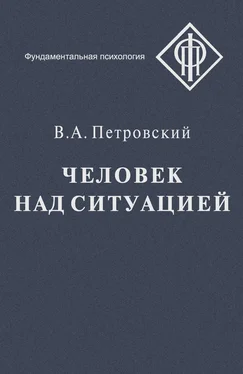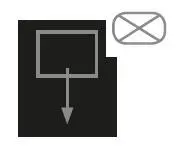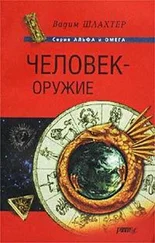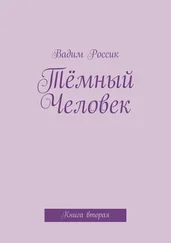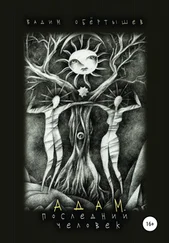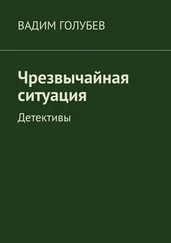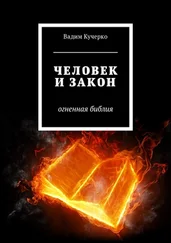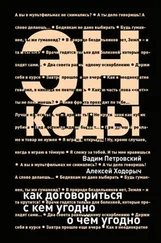Тем, кому посчастливилось слушать яркие лекции Алексея Николаевича Леонтьева, памятен пример, который не был бы так доходчив, если бы не удивительная пластика жеста лектора. «Понимаете, – говорил он, как всегда, с подкупающей доверчивостью к понятливости слушателей, – рука движется, повторяя контуры предмета, и форма движения руки переходит в форму психического образа предмета, переходит в сознание». И его длинная узкая ладонь легко скользила по краю стола.
«На первоначальных этапах своего развития, – продолжает свое повествование А. Н. Леонтьев, – деятельность необходимо имеет форму внешних процессов… Соответственно, психический образ является продуктом этих процессов, практически связывающих субъект с предметной действительностью». Если же отказаться от изучения этих внешних процессов как генетически ранних форм производства образа, то «нам не остается ничего другого, как признать существование таинственной “психической способности”, которая состоит в том, что под влиянием внешних толчков, падающих на рецепторы субъекта, в его мозге – в порядке параллельного физиологическим процессам явления – вспыхивает некий внутренний свет, озаряющий человеку мир, что происходит как бы излучение образов, которые затем локализуются, “объективируются” субъектом в окружающем пространстве» ( Леонтьев А. Н., 1975, с. 92–93). В работах А. Н. Леонтьева, А. В. Запорожца, Л. А. Венгера, Ю. Б. Гиппенрейтер, В. П. Зинченко, их сотрудников и учеников идея по рождения психического образа в деятельности, производности сознания от чувственно практических контактов субъекта с окружающим миром прослеживалась экспериментально и в значительной мере была обобщена в формуле «восприятие как действие». Такой подход к психологии восприятия составляет необходимое условие понимания генезиса сознания в деятельности, служит конкретно-психологической формой реализации того положения, что «идеальное есть материальное, пересаженное в голову человека и преобразованное в ней» (К. Маркс). Человеческая чувственная предметная деятель ность рассматривается как производящая основа, «субстанция» (А. Н. Леонтьев) сознания. Таким образом, отвергается универсальность тезиса, согласно которому сознание предвосхищает деятельность, и наоборот – утверждается, что деятельность предшествует сознанию. Еще одна «бесспорная» характеристика деятельности теряет силу (рис. 1.9):
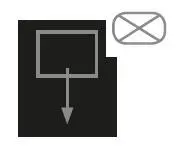
Рис. 1.9. «Деятельность не предваряется сознанием»
Деятельность невидима . Достаточно внимательно познакомиться с основными работами А. Н. Леонтьева, чтобы понять, что деятельность в них ни в коей мере не может быть отождествлена с поведением, – активностью в ее внешних проявлениях. Принцип предметности и, соответственно, круг феноменов предметности («характера требований», «функциональной фиксированности» объектов и т. п.) «позволяют провести линию водораздела между деятельностным подходом и различными натуралистическими поведенческими концепциями, основывающимися на схемах “стимул-реакция”, “организм-среда” и их модификациях в необихевиоризме» ( Асмолов, 1982). Выразительный пример того, что предмет деятельности отнюдь не тождествен вещи, с которой в данный момент непосредственно взаимодействует человек и которая непосредственно доступна стороннему наблюдателю, приводит А. У. Хараш, напоминая об одном примечательном эпизоде, рассказанном К. Лоренцем. Известный этолог однажды водил «на прогулку» выводок утят, замещая собой их мать. Для этого ему приходилось передвигаться на корточках и, мало того, непрерывно крякать. «Когда я вдруг взглянул вверх, – пишет К. Лоренц, – то увидел над оградой сада ряд мертвенно-белых лиц: группа туристов стояла за забором и со страхом таращила глаза в мою сторону. И не удивительно! Они могли видеть толстого человека с бородой, который тащился, скрючившись в виде восьмерки, вдоль луга, то и дело оглядывался через плечо и крякал – а утята, которые могли хоть как-то объяснить подобное поведение, утята были скрыты от глаз изумленной толпы высокой весенней травой. Страх на лицах зрителей – это не что иное, как их невербальный самоотчет о том перцептивном впечатлении, которое так хорошо воспроизвел сам К. Лоренц. Его деятельность наблюдалась в урезанном виде – из нее был полностью “вырезан” предметный, смыслообразующий кусок » ( Хараш, 1980, с. 3).
Читать дальше