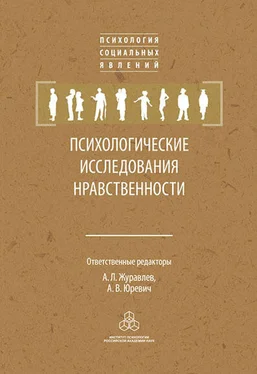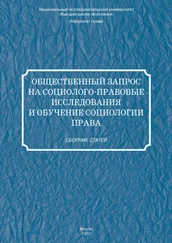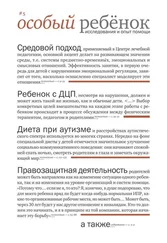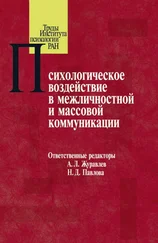Для сравнения приведем свидетельства об эмоциональном настрое участников других массовых собраний – митингов после выборов руководства страны (в декабре 2011 – Госдумы, а в марте 2012 – Президента). В протестном (или, наоборот, поддерживающем) движении приняли активное участие сотни тысяч наших соотечественников в разных городах. Отметим характерные черты данных выступлений. Это их пока относительно мирный, не взрывной эмоциональный настрой, большая степень разобщенности при некоторой консолидации вокруг критики тех или иных идей или конкретных лиц. Эмоциональный настрой собрания на Болотной площади известный политолог Н. А. Нарочницкая определила как «состояние массового агрессивного пессимизма» и предупредила, ссылаясь на мысль, высказанную философом Астафьевым, что «одно из самых печальных и тяжелых состояний нации, когда она, не имея идеалов и положительных целей, не может четко сформулировать, чего она хочет, но точно знает, чего больше не хочет, в чем разочарована» (Нарочницкая, 2012, с. 1).
Идеал русских проявился на глубинном уровне во время такого массового и трудно объяснимого внешними причинами «стояния» для поклонения православной святыне. Мы видим также внутреннюю связь между этим событием и относительно мирным разрешением президентской выборной компании. Объяснить, в чем именно состоит эта связь, мы пока не можем, хотя предполагаем, что происходит процесс активного поиска нравственного идеала, вокруг которого может объединиться народ, и этот внутренний процесс временами достигает такой интенсивности, что становится заметным в массовых своих проявлениях. Четыре миллиона – это даже для многомиллионной России внушительная цифра.
Отметим также, что организованная одновременно антикомпания в некоторых СМИ не способна была повлиять на стихийный процесс движения к святыне. В жизни личности тоже бывают подобные моменты, когда проявляются подлинные ценности и мотивы. В этом случае человека трудно остановить в его движении к цели, он оказывается в состоянии совершить подвиг. Об этом много было сказано в литературе и психологических исследованиях советского периода, с концом которого сами верно подмеченные законы психической жизни не отменяются. У психологически здорового человека, хотя бы потенциально, должно присутствовать стремление к высшим ценностям, определяющим смысл его жизни.
При включении тех или иных явлений в поле зрения макропсихологического подхода нужно учитывать, что 1990-е годы в России отмечены не только развалом культуры [15] То, что сейчас побеждает в «престижных» российских конкурсах, зачастую бывает непристойно и претендует на разрушение общественной морали. Примеров много. Нам бы не хотелось на них подробно останавливаться из-за естественного чувства брезгливости.
, образования, здравоохранения и даже обороноспособности государства, бурным ростом криминала, обнищанием населения и «сексуальной революцией». Последствия начатых тогда процессов сказываются в удручающей статистике показателей по асоциальному поведению. Но в те же 1990-е годы происходил другой процесс, связанный с духовным возрождением страны, с возвращением к тем ценностям, которые когда-то составляли духовную основу и фундамент государства российского. В этот процесс постепенно включалась часть наших сограждан.
Обратимся к опубликованным воспоминаниям, позволяющим увидеть «другие 1990-е» – для кого-то годы ясной юности с ее чистыми и светлыми устремлениями [16] Здесь стоит с благодарностью вспомнить о молодежных движениях 1960-1970-х годов. Отчасти подневольные, они использовали молодую энергию и юношескую устремленность к реализации идеала (тогда – коммунистического). И сколько же построенного «комсомольцами-добровольцами» служит последующим поколениям и работает до сих пор!
. «Это было давно, в середине девяностых. В те времена русское православие усиленно возрождалось. Именно возрождалось, само, в душах людей и в сердце народа. Усердно восстанавливались сотни храмов и монастырей. Восстанавливались „сами“, потому что обескровленное на тот момент государство самое большое, чем могло помочь, так только тем, что перестало репрессировать священство и преследовать верующих» (Корнеева, 2011, с. 72). Далее автор вспоминает, что в тот период ей и ее друзьям было по 16 лет, а их романтикой были поездки в восстанавливаемые храмы, «на развалинах которых, по локоть в глине и по колено в грязи» они чувствовали себя нужными. «Беседы и совместный тяжелый труд, общие скудные трапезы, согретые сердечным теплом – вот то, чем мы жили, дышали. Время, когда никто из нас не говорил о деньгах и доходах, время, когда думали только о высоком, когда по-детски жили в идеальном мире, ставя очень высоко свои подвиги и достижения» (Корнеева, 2011, с. 71). Постоянный лейтмотив данных воспоминаний в обретении мудрости, вынесенной из этого юношеского опыта, т. е. понимания того, что, помогая другому (храму, человеку), ты помогаешь тем самым себе. Ключевое слово, наиболее часто используемое здесь автором – это «нужность». Когда молодой человек испытал чувство своей нужности другим, это в дальнейшем становится основой его жизненных выборов. И чем более широкий круг охватывает чувство нужности (от друзей и родственников – до храма и самого Творца), тем крепче становится эта основание.
Читать дальше