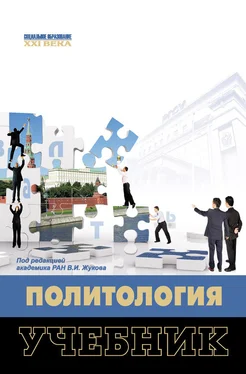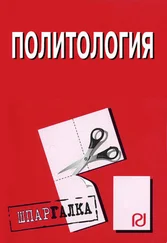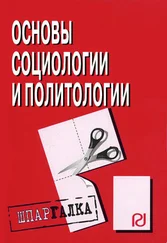На рубеже XVII–XVIII веков зарождается социально-политический феномен, получивший название Просвещение. Оно идейно подготовило события общемирового масштаба и значения – Великую французскую буржуазную и американскую революции. В отдельных странах (Англия, Германия, Италия) Просвещение имело ограниченно национальную окраску, но всеобъемлющую модель представила Франция (Ф. Вольтер, Д. Дидро, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо). Основываясь на принципах рационализма, французские просветители дополнили концепции равенства всех перед законом, верховенства закона, народного суверенитета.
Ш. Монтескье стал основоположником исторической географии, установив связь природно-климатического, геополитического фактора и формы государственности в различных странах, сформулировал классическую модель разделения властей, выделив судебную ветвь как самостоятельную. Ж.-Ж. Руссо четко разграничил гражданское общество и государство, обосновал неотчуждаемость народного суверенитета, но главное, предложил революционную идею обновляемости общественного договора. Политическая умеренность либо радикализм воззрений просветителей предопределили идейное многообразие периода Французской буржуазной революции (1778–1793). Республиканские идеи были дискредитированы якобинцами (Ж.-П. Марат, М. Робеспьер), что привело к реставрации монархии.
Условия же для практической реализации этих идей сложились в процессе борьбы американских колоний за независимость. Политическая идеология этого процесса нашла отражение в Декларации Независимости США. Впервые в истории теории естественных прав человека право их отстаивать принцип разделения властей лежало в основе государственного устройства и государственной политики. Произошло это благодаря, в первую очередь, политической мудрости Т. Джефферсона.
В первой половине XIX века окончательно формируются основные политические идеологии: либерализм, консерватизм и социализм. Ведущей в этот период становится идеология либерализма, провозглашавшая абсолютную ценность прав и свобод личности, свободы частной собственности и экономической деятельности, разделения властей и др. В Англии, Германии, Франции одновременно появляются либеральные концепции, основанные на взглядах Т. Гоббса, Д. Локка, французских просветителей и отражающие стремительный рост системы буржуазного демократизма и конституционализма.
И. Бейтам объявляет все предшествующие концепции свободы и равенства, договорного происхождения государства практически недоказуемыми, создает теорию утилитаризма. Драматизм эпохи первоначального накопления капитала подвигает его, с одной стороны, к признанию полезности как главного критерия оценки всех явлений, а с другой, – утверждению, что всеобщая польза достигается путем гармонизации индивидуальных и общественных интересов.
Д.С. Милль, критически переосмысливая эти положения, разрабатывает идеи соотношения свободы индивида и деятельности, утверждая приоритетность первого. Тем не менее, по его мнению, общество ответственно за состояние государственности: чем выше нравственное состояние общества, тем совершеннее государство.
Б. Констан также отстаивает принцип первичности духовной и материальной автономности индивида и в связи с этим корректирует положение Ж.-Ж. Руссо о народном суверенитете, настаивая на необходимости общественного контроля над властью. А. Токвиль формирует учение о демократии в самом широком его понимании, опираясь на исторический опыт французской и американской революций. В центре его внимания находится ключевая проблема – баланс свободы и равенства.
Привлекательность идеи равенства очевидна, но социальная ценность свободы перевешивает, так как формирует в человеке целеустремленность и ответственность за свои действия. Несомненной заслугой А. Токвиля является то, что он «открыл» риски демократии, кроющиеся в ее преимуществах. Социально-экономические и политические блага демократического устройства пораждают самоизоляцию индивида, его устранение от активного участия в общественных делах и создают предпосылки установления деспотии.
В. Гумбольдт доводит либеральную позицию в отношении места и роли государства до крайности. Отвергая его претензии на тотальную регламентацию общественной жизни, он признает все государственные законы безнравственными и социально порочными. Его труды не были опубликованы при жизни, этот пробел восполнили идеи И. Канта и Г. Гегеля.
Читать дальше