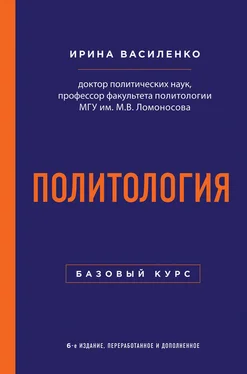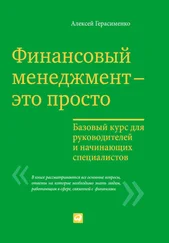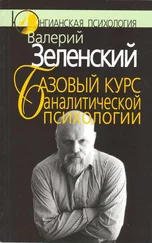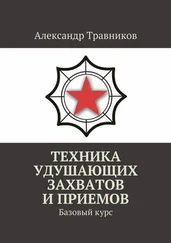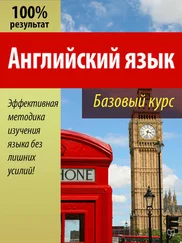Известное изречение, приписываемое Уинстону Черчиллю, о том, что генералы всегда готовятся к сражениям прошлой войны, сегодня в значительной мере относится и к политологам. К тем, которые упорно пишут об ужасах тоталитарной цензуры и запретах религиозного фундаментализма, не замечая, что в информационном обществе на первый план выдвигается новый уровень опасностей, связанных с торжеством виртуальной вседозволенности. Сегодня мы вступаем в новую эру, когда виртуальное политическое время настолько подчинило себе время реальное, что человечество вплотную подошло к созданию чисто информационной структуры политических взаимодействий.
Информация постепенно становится основным компонентом нашей политической организации, а потоки виртуальных образов составляют основную нить политической структуры общества. Между тем вся система национального и международного права по-прежнему регламентирует только сферу реального политического пространства-времени, не замечая виртуального измерения мира политики. Человечеству давно пора посмотреть на свое отражение в виртуальном политическом зеркале и ощутить космический пульс виртуального политического времени.
Мнение ученых
Ведущая роль политики в современном обществе не раз подчеркивалась в работах крупнейших мыслителей нашего времени. В частности, французский философ, социолог и политолог Раймон Арон (1905–1983) утверждал, что примат политики над другими видами человеческой практики, в том числе над экономикой, объясняется тем, что политика непосредственно затрагивает сам смысл человеческого существования. Все дело в том, что общественная жизнь определяется прежде всего системой сложившихся отношений между людьми. Именно механизмы исполнения власти в обществе, способы назначения и избрания лидеров, отдающих приказы и распоряжения, больше любой другой сферы влияют на характер общественных отношений. Как известно, все основные различия современных обществ обусловлены структурами государственной власти. Это позволило Арону сделать важный вывод: «В современных условиях все происходит так, будто возможные конкретные варианты постиндустриального общества определяет именно политика» [7] Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993. С. 30.
.
Английский политолог и социолог Карл Раймунд Поппер (1902–1994) в работе «Открытое общество и его враги» обосновал фундаментальный характер современной политологии как науки о политической власти . Он обратил внимание на то, что именно политика контролирует экономическую мощь, все социальные, культурные и военные программы: «Политическая власть и присущие ей способы контроля – это самое главное в жизни общества» [8] Поппер К. Открытое общество и его враги: в 2 т.: пер. с англ. М., 1992. Т. 2. С. 148.
. Именно политические программы способны помочь экономически незащищенным членам общества ограничить эксплуатацию, снизить рост безработицы, поддержать национальную культуру, сохранить экологию.
Таким образом, политика сегодня имеет ключевое значение в решении основных проблем человеческого существования. Вот почему так важно определить, какой научный смысл вкладывается в это понятие. Современная политология интерпретирует политику в институциональном, нормативном и процессуальном измерениях.
Институциональноеизмерение политики определяется основными институтами: конституцией, принципом разделения ветвей власти, правовым порядком, избирательной системой, организацией и наличием партийной жизни.
Нормативное( содержательное ) измерение политики зависит от целей и задач. В современном обществе, построенном на принципах демократии и плюрализма, различные политические партии часто преследуют противоположные цели, что делает политику достаточно конфликтной, противоречивой и многогранной в нормативном плане.
Интерпретация ключевых категорий
Макс Вебер утверждал, что «всякое этически ориентированное политическое действование» может подчиняться двум фундаментально различным, даже непримиримо противоположным максимам: оно может быть ориентировано либо на «этику убеждения», либо на «этику ответственности» [9] Вебер М. Политика как призвание и профессия. С. 696.
.
Тот, кто исповедует этику убеждения , чувствует себя ответственным в политике только за то, чтобы не гасло пламя чистого убеждения, например, пламя протеста против несправедливого политического порядка. Разжигать это пламя снова и снова – вот цель его политики. Тот, кто исповедует этику ответственности , считается с последствиями своих действий и не может перекладывать на других ответственность за свою политику. Такой человек скажет: «Эти следствия вменяются моей политической деятельности». Однако этика убеждения и этика ответственности не абсолютные противоположности в политике, они являются, по существу, взаимодополнениями, которые лишь совместно составляют подлинное, «веберовское» призвание к политике.
Читать дальше