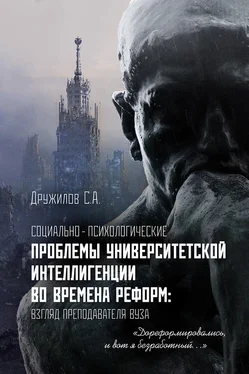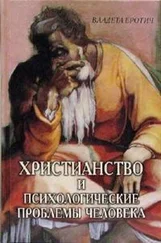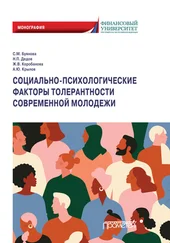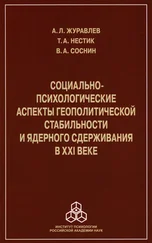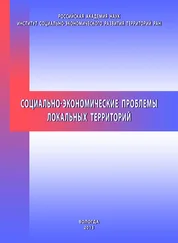1 ...6 7 8 10 11 12 ...134 Можно утверждать, что объектом «красного террора», развязанного большевиками после прихода их к власти, изначально стал старый образовательный (интеллектуальный) слой российского общества.
Известно, что российский «образовательный слой» в большинстве своем встретил большевистскую революцию резко враждебно. Более того, это была единственная социальная группа, которая сразу же оказала большевизму активное сопротивление, в том числе вооруженное. Это происходило уже в то время (осень 1917 г. – зима 1918 г.), когда крестьянство и даже казачество оставались пассивны. Среди тех, кто оказывал сопротивление установлению большевистской диктатуры в стране, представители образованного «сословия», по данным С.В. Волкова, составляли до 80-90 %.
Большевики понимали, что их реальными противниками в гражданской войне были не мифические «капиталисты и помещики», а интеллигенция – в погонах и без погон. По свидетельству А.В. Луначарского, «русская интеллигенции оказалась на стороне врагов революции и рабочего класса.
[…] Революция тоже определила свое отношении к интеллигенции. Поскольку дело дошло до гражданской войны, нужно воевать. Это совершенно ясно: ни один настоящий революционер не скажет интеллигенту так – я позволю тебе стрелять в меня; я же в тебя стрелять не буду» (цитируется по [Волков, 1999]).
Поэтому режим «красного террора», официально введенный в сентябре 1918 г., во многом был направлен против «интеллектуалов». Сама принадлежность к образованному слою, соответствующая профессия, связанная с умственным трудом были достаточными основаниями для включения в число заложников, ареста и последующего расстрела. Об этом говорят многие приказы Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), высказывания ее руководителей Советского государства того времени.
Один из высших руководителей ВЧК М. Лацис (1888-1938 гг.), давая инструкции местным органам, указывал на необходимость руководствоваться при вынесении приговора профессией и образованием подозреваемых: «Не ищите в деле обвинительных улик; восстал ли он против Совета с оружием или на словах. Первым долгом вы должны его спросить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, какое у него образование и какова его профессия. Вот эти вопросы и должны разрешить судьбу обвиняемого. В этом смысл и суть Красного террора» (из статьи в журнале «Красный террор»: печатный орган ЧК Восточного фронта. Казань, 01.11.1918 г.).
В приказе ВЧК «Об учете специалистов и лиц, могущих являться заложниками» Ф.Э. Дзержинский подчеркивал, что заложниками должны быть «выдающиеся работники, ученые, родственники находящихся при власти у них лиц». В инструкциях местным органам советской власти по взятию заложников для расстрела указывался круг соответствующих профессий будущих жертв. Большевистские вожди смысл и цели террора видели в подавлении именно интеллигенции.
Лев Троцкий, один из руководителей Советской России, пишет в газете «Известия ВЦИК» от 10.01.1919 г.: «Террор как демонстрация силы и воли рабочего класса получит свое историческое оправдание именно в том факте, что пролетариату удалось сломить политическую волю интеллигенции».
И ученых, профессоров, преподавателей вузов власти брали в заложники, расстреливали в застенках.
Русский историк и политический деятель С.П. Мельгунов (1879-1956 гг.), высланный в 1922 г. из Советской России, в 1924 г. в Берлине издал свою книгу «Красный террор в России. 1918-1922». В этой книге С.П. Мельгунов, ссылаясь на публикацию проф. Sarolea в эдинбургской газетe «The Scotsman» за 07.11.1923 г., в числе иных погибших называет и «6000 профессоров и учителей» [Мельгунов, 1990, с. 65].
С.П. Мельгунов пишет, что автор не указывает источник этих данных. Достоверность приведенных цифр не может быть проверена и вызывает сомнения. Основания для сомнений мы находим у современного отечественного историка С.В. Волкова, которого трудно отнести к числу «ангажированных большевиками». Он пишет, что в 1916 г. в России учебный персонал вузов в сумме составлял всего 6655 человек [Волков, 1999, табл. 1].
Истинность приведенных потерь означала бы, что в живых осталось только 655 «старых» преподавателей вузов. Но в 1919 г., по данным С.В. Волкова, в России насчитывается 4000 (по другим данным – 1927) университетских преподавателей [Волков, 1999, глава 3, часть 1].
По мнению историка – современника событий, общая характеристика террора в России соответствует действительности. С.П. Мельгунов пишет, что среди примерно 1,7-1,8 млн. всех расстрелянных большевиками в эти годы (именно такие цифры получили широкое хождение в эмигрантской печати) «на лиц, принадлежащих к образованным слоям, приходится лишь 22 % (порядка 440 тысяч)» [Мельгунов, 1990, с. 87-88]. Но и это число жертв ужасает.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу