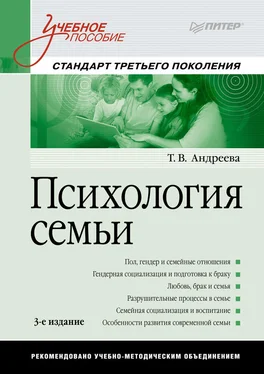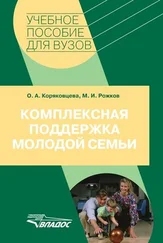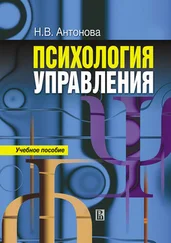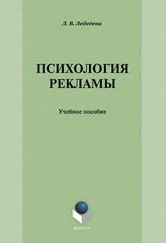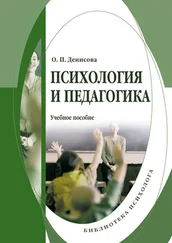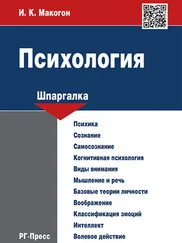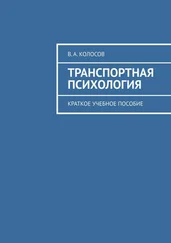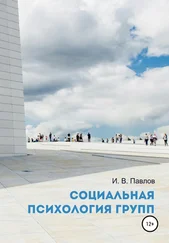В настоящее время, однако, в наиболее обеспеченных слоях населения ведение семейного бюджета и отношения супругов, связанных с финансами семьи, сходны с тем, как это описывает Таннен. Муж зарабатывает и распоряжается большими суммами денег, выдавая значительно меньшие суммы жене. При этом ее расходы часто контролируются им, он вправе проявлять недовольство расточительностью жены. В результате в части обеспеченных семей женщина (жена или чаще – подруга, по старой терминологии – сожительница) оказывается материально и психологически в сильной зависимости от своего мужчины-главы, что тяжело переносится ею как собственная незначимость. В. К. Шабельников пишет о тенденции переподчинения женщины мужчине в семьях бизнесменов, что вызывает семейные конфликты (Шабельников В. К., 2003).
Таким образом, возникает впечатление, что в обеспеченных слоях населения вне зависимости от культуральных особенностей взаимоотношения в семьях (и гражданских браках) строятся по типу тех, о которых говорит Д. Таннен. В так называемых культурах бедности (по терминологии Ли Рейнуотера и Збигнева Льва-Старовича) половые различия проявляются по-иному. К таким культурам авторы относят социальные группы, имеющие низкий материальный уровень (сельхозрабочие Пуэрто-Рико, фабричные рабочие Англии, браки представителей низших слоев США, индейцев Тепоцтлан) (Лев-Старович З., 1991).
К культурам бедности с полной очевидностью можно отнести и большинство семей советского периода в нашей стране, а также значительную часть периода постсоветского. Классическим примером по своей психологической сути (необязательно в смысле недостаточности средств к существованию) являются семьи рабочих промышленных предприятий и сельские семьи. В таких семьях существует как бы материнский род, в той или иной форме – расширенная семья с преемственностью по материнской линии, взаимопомощь ее членов. В стабильных семьях такого типа основной кормилец – муж, но право тратить деньги принадлежит жене, она же, как правило, имеет психологическое право обвинять мужа в расточительности тех небольших сумм, которые у него оказываются (либо заработанных им и сокрытых от жены денег). В этом случае, то есть в специфически русской культуре, женщина в культурах бедности и не стремилась обсуждать с мужем, что приобрести для семьи, так как это решение самолично принималось ею, обсуждения были бы для нее невыигрышны. Таким образом, здесь мы имеем гендерные особенности взаимодействия, прямо противоположные описанным Д. Таннен: женщинам как бы не требуется обсуждение материальных проблем семьи.
Интересно, что само российское слово «заначка» (как сокрытая от супруги часть доходов) не могло появиться в культурах, где действительный глава семьи – мужчина, так как нелогично реальному лидеру утаивать деньги, им же заработанные. Утаивание предполагает подчинение, признание наличия власти у партнера (в данном случае – у жены). Тот, кому принадлежит власть в какой-либо группе (семейной или производственной), обычно открыто декларирует, что у него есть денежные средства в его безраздельной власти.
Следует подчеркнуть, однако, что в этом случае проявляются другие психологические особенности пола – женщины берут бразды правления в семьях, в которых материальные средства приближены к минимальным (по современной терминологии – к прожиточному минимуму). Таким образом, женщина – жена и мать фактически спасает свою семью от губительных последствий (в частности, детей от недоедания). Это во многом перекликается с теорией В. А. Геодакяна о женском начале как о факторе, сохраняющем биологический вид.
Половые различия, по мнению Д. Таннен, проявляются в особенностях менталитетамужчин и женщин. Автор пишет, что если женщина начинает диалог с традиционного: «Что ты об этом думаешь?» – мужчина часто уверен, что от него ждут решения (и не намерен долго слушать). Если сопоставить эти выводы, сделанные американской исследовательницей, с современными данными нейропсихологов, то можно сделать вывод, что такие различия имеют не культуральное, а вполне физиологическое (или, правильнее, нейропсихологическое) объяснение, связанное с особенностями работы мозга мужчин.
Так, авторы книги «Мальчики и девочки – два разных мира» В. Д. Еремеева и Т. П. Хризман описывают эксперимент с энцефалографическими замерами, проведенными с детьми 4-летнего возраста. Детям рассказывали сказку о Красной Шапочке и волке, одновременно замеряя ЭЭГ в десяти точках мозга.
Читать дальше