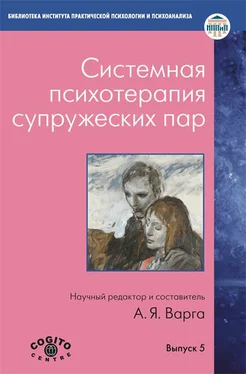С: От меня в шоке?
А: Нет, само это чувство, такая… открытость, и вот ты сейчас на меня смотришь, а я могу просто говорить, а не стараться тебе понравиться (у Анны на глазах появляются слезы).
С (улыбаясь): Сейчас я тоже заплачу, вот тогда будешь в шоке. На самом деле, для меня самое важное в сегодняшней беседе, что появилось ощущение, что можно куда-то двигаться. Я думал, что мы в полном тупике. А сейчас получается, что мы этот тупик сами придумали – может быть и выберемся.
В течение следующих восьми терапевтических встреч, состоявшихся в течение полугода, Анна и Сергей исследовали:
1. Свои предпочитаемые идентичности:
• у Анны это была «Анна», которая предпочитает и умеет быть открытой, спонтанной, разной, меняющейся, заботливой, умеет слушать, любит играть с детьми, разговаривать с мужем, читать, застенчивая, любит французскую музыку и кухню, хочет каждый день создавать дом, в котором всем тепло, ценит честность, любовь и свободу настолько, что, если «из ее жизни это уходит», была готова потерять самое дорогое, что у нее есть – себя, умерев, или мужа, разведясь;
• у Сергея это был «Сергей – человек обыкновенный», который предпочитает и умеет быть настойчивым, находчивым, верит, что «все можно решить», ценит честность, свободу и любовь, стремится сделать так, чтобы «его дети не боялись зря», любит смотреть как жена смеется, стремится «вносить в мир больше безопасности» [30].
2. Ценности и готовность/возможность поддержать предпочитаемые идентичности друг друга ii. Сергей и Анна разделяли некоторые наиболее важные для каждого ценности: свободу, любовь и честность, им также нравилось видеть в себе людей, которые поддерживают в партнере его предпочтения. В некоторых важных для каждого вещах они расходились, но не чувствовали в этом критичных для совместной жизни противоречий. Например, для Сергея было важно быть человеком, заботящимся о здоровье и безопасности семьи, и Анна была готова это так понимать, даже когда сама восприняла бы какие-то действия как выражение излишнего беспокойства. А Сергей был готов воспринимать отсутствие у Анны беспокойства по некоторым вопросам (которое он раньше считал проявлением « зайкиной беспечности» , что усиливало необходимость быть «мужиком») как выражение ее предпочтения « жить с радостью» .
3. Проблемы, вносившие вклад в сложности с формулированием, выражением и готовностью поддержать друг друга в предпочитаемых версиях. В процессе дуальной экстернализации различных проблем – участников супружеских сложностей – Анна и Сергей решили, что наибольший вклад именно в эти сложности внесли Избегание конфликта, Страх потери и Чувство вины. Проблему, которая была между ними, супруги назвали « театр» . Проблемы обсуждались обычным образом в экстернализационном ключе, специфика будет описана ниже.
4. Социальные ожидания, контексты и идеи, поддерживающие проблемы и сложности в отношениях.
Как проводится интервью, свидетельская позиция
Майкл Уайт (White, 2004) предложил использовать разработанную им же в нарративном подходе практику свидетельствования (см.: Уайт, 2010, с. 182–241) в консультировании пар. Такого рода структура интервью может использоваться и при нарративном консультировании семей с детьми, и при любой нарративной терапии, когда консультируются несколько людей. В самом начале беседы терапевт может спросить клиентов, не возражает ли кто-то из них, если он, терапевт, будет беседовать с ними по очереди, в каждый момент времени говоря с одним человеком, а другой/ие в это время постарается перейти в позицию свидетеля беседы – слушать так, как будто это важная и интересная, но – радиопередача или разговор попутчиков в транспорте. Понятно, что в действительности это не так, и терапевт просто обсуждает с человеком возможность и стремление возвращаться к такой позиции («открытой и восприимчивой» – Фридман и Комбс), когда он слушает другого/их во время встречи. В случае если ему крайне необходимо сказать, он может что-то сказать, но для облегчения пребывания в позиции свидетеля, человеку можно предложить ручку и бумагу, чтобы он мог записывать те вещи, которые считает важным не забыть и которые у него будет возможность озвучить, когда он будет откликаться на услышанное. Обычно консультант по очереди проводит симметричные по смыслу вопросов беседы. То есть, спросив одного партнера о его целях, задачах и планах на эту встречу, и, возможно, сформулировав с ним версию запроса в течение 10–15 минут, терапевт, прежде чем двигаться дальше, поговорит на эту же тему с другим партнером – ответы у партнеров и, соответственно, содержание бесед будут разными, а тема общая. Обращаясь к тому партнеру, который был в позиции свидетеля, слушал, терапевт в первую очередь просит его свидетельский отклик. Полезно бывает начать с вопроса «было ли что-то в том, что вы услышали, хотя бы минимально вас обрадовавшее?» Дальше можно задать какие-то из обычных вопросов свидетельского отклика (Уайт, 2010, с. 208–211). Иногда ответ на первый вопрос может послужить точкой входа в описание предпочитаемой идентичности, в разговор о ценностях человека. Узнав, что именно человека обрадовало, терапевт может спросить, «почему это его обрадовало, что это может говорить, о том, что для него важно, о его целях и/или ценностях и т. д. (White, 2004, с. 21 и далее).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу