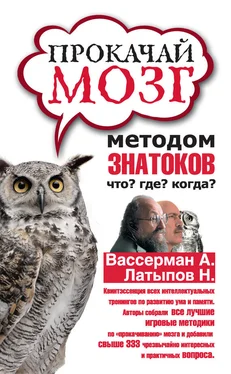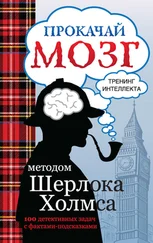В. Ковалёв.Во-первых, я никак не могу взять в толк, как можно попасть в то, что не имеет размеров, то есть в точку. Во-вторых, точность – это идеализация, химера нашего ума, а в реальном мире ничто не может абсолютно точно совпасть друг с другом, ничто не может абсолютно заменить другое. В-третьих, не надо путать математику с логикой, а логику формальную (математическую) с диалектической, то есть рассудок с разумом. Математика – предел формализации как таковой, то есть рассудок чистейшей воды, который умеет только разделять, фиксировать и связывать внешней связью эти выделенные им неподвижности. Созданная математикой абстракция точки, то есть дискретности как таковой, у которой единственное свойство – отсутствие свойств, – ярчайший пример голого рассудка. Плоскость же по отношению к точке есть её прямая противоположность, то есть континуум, непрерывность как таковая. Математика – это только фиксация их различия и ничего более. А в чём состоит их тождество, она не знает, это уже вопрос философии, которая на что-нибудь да может-таки сгодиться. Наше сознание в любом процессе познания то проваливается в голую математику, то поднимется на уровень философии, и только так, пульсируя, оно может получить действительное знание.
А. Трушечкин [35] А. С. Трушечкин, доцент кафедры № 28 (Системный анализ) НИЯУ МИФИ.
. Общепринятый ответ на этот парадокс – что «невероятное» не означает «невозможное». Невероятное событие – вероятность которого равна нулю, невозможное – которое не может произойти. На это можно возразить: «Как же? Согласно исходным идеям теории вероятностей, если вероятность равна нулю, то событие и есть невозможное!»
Тогда тут, пожалуй, можно разобрать подробнее, как мы делаем вывод о том, что вероятность попадания в точку равно нулю. Здесь речь идёт о геометрической вероятности. Предположим для простоты, что мишень ограниченна: например, это круг единичной площади, и мы стреляем по нему безразмерными пулями. Тогда вероятность попадания в произвольную область этого круга равна площади этой области. Площадь точки равна нулю. Почему? Ответ: по определению (из теории меры) множество имеет площадь ноль, если его можно накрыть множеством сколь угодно малой площади. Для точки можно это сделать. Например, рассмотреть последовательность маленьких кружков с центрами в этой точке и радиусами, стремящимися к нулю. Вероятность попадания в кружок с уменьшением его радиуса уменьшается, но не ноль. То есть множество нулевой площади определяется не непосредственно, а как бы итеративно, путём приближения множествами уменьшающейся площади. Поэтому и утверждение о том, что вероятность попадания в точку равна нулю, можно воспринимать так же: здесь не чистый ноль, а бесконечно малая последовательность чисел. Попасть в точку можно, но вероятность исчезающе мала.
Таким образом, в этих рассуждениях всплывает на поверхность то, что точка – это идеализация очень маленького множества (конец обсуждения)
Так что, любезный наш читатель, зря старался А. Н. Колмогоров?
ВОПРОС № 14
Парадокс неожиданности. Однажды в воскресенье начальник тюрьмы вызвал преступника, приговорённого к казни, и сообщил ему: «Вас казнят на следующей неделе в полдень. День казни станет для вас сюрпризом, вы узнаете о нём только когда палач в полдень войдёт к вам в камеру». Начальник тюрьмы был честнейшим человеком и никогда не врал. Заключённый подумал над его словами и улыбнулся: «Вы не сможете казнить меня, если хотите выполнить свои обещания!»
Тем не менее, начальник тюрьмы выполнил свои обещания, и узник был казнён неожиданно для него, как и было обещано! Как это возможно?
Парадоксы теории множеств
«Никто не может изгнать нас из рая, созданного нам Кантором!» – заявил Давид Гильберт по поводу теории множеств Георга Кантора. Таково было чувство восторга от новой «игрушки» у математиков того времени. В 1873 году Кантор ввел понятие множества. Первоначально новая теория помогла решить ряд проблем. Однако очень скоро в ней обнаружились противоречия.
Первое противоречие возникло благодаря введению и анализу самого большого множества из всех: множества всех множеств. Простейший вопрос «Существует ли множество всех множеств?» тут же приводит к парадоксу. Для этого надо напомнить, что в теории множеств разрешима процедура включения одного множества в состав другого или «взятие множества от множества». (Это вам ничего не напоминает? Правильно – вездесущую рекурсию!)
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу