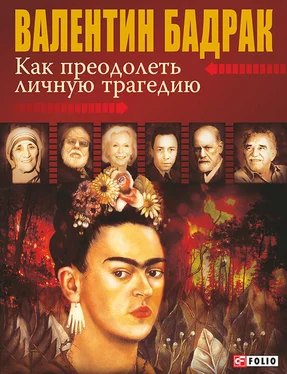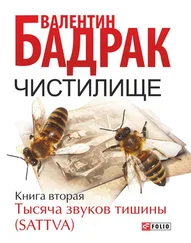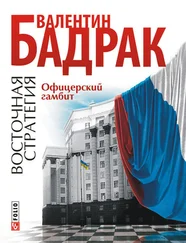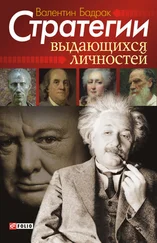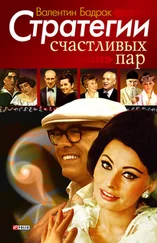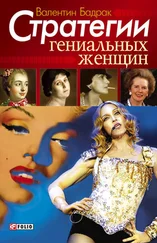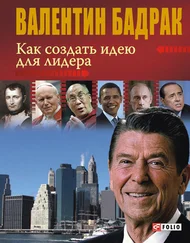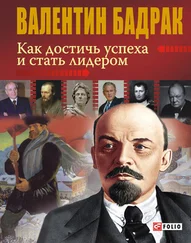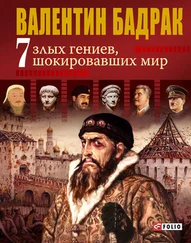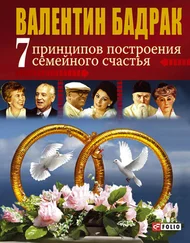Детство Мэя ничем знаменательным не отмечено. Значение может иметь разве что факт его старшинства среди шести сыновей, который явно уравновешен таким негативными явлениями в его ранней жизни, как развод часто ссорившихся родителей и психическая патология старшей сестры. Есть мнения, что в этой семье было слишком мало проблесков теплых, наполненных любовью отношений и мальчику становилось неуютно слишком часто. Дискомфорт, как всегда бывает в таких случаях, гнал его в страну одиноких мечтаний – к книгам, природе, живописи, размышлениям. Попытка стать художником, впрочем, не увенчалась успехом. Серия, казалось бы, беспричинных приступов удручающего одиночества, безысходности, отчаяния и страха привела к утрате душевного равновесия и ранним нервным потрясениям. Анализируя свою жизнь, Мэй пришел к выводу о потере ценностных ориентиров и в значительной степени цели и смысла жизни. Ему было тогда 23 года. Именно в это время Мэю довелось участвовать в летнем семинаре Альфреда Адлера, таким образом он приобщился к таинственной для него науке под названием «психология». Встречи с знаковыми личностями своего времени – теологом и философом Паулем Тиллихом, Гарри Салливаном и Эрихом Фроммом – настолько помогли расширить специализированные знания и укрепить убеждения Ролло Мэя, что в 35 лет он сумел приступить к частной практике. В поисках своего места в жизни Ролло Мэй, казалось, продвигался на ощупь, сомневаясь и желая попробовать себя в различных ролях. Так, некоторое время он даже служил пастором, но слишком быстро разочаровался. Он как будто уже решил посвятить себя психотерапии и даже вошел в состав преподавателей соответствующего Института Уайта, но все те же неразрешенные вопросы мешали ему окончательно определиться. Каковы были глубинные причины этого продолжительного беспокойства, мешавшего сосредоточиться на единственно важной деятельности? Точно ответить на этот вопрос не мог даже сам Мэй. Но, по всей видимости, наслоение проблем детства вкупе с настойчивым желанием отделить, обособить себя от семейных дрязг каким-либо значимым самовыражением заслоняло от него самую суть этого выражения. Живопись, религиозное служение, психоанализ – все эти довольно далекие друг от друга виды деятельности воспринимались им, скорее, как механизм ухода от прежней жизни. Постижение же самого творчества отступало на второй план, ощущения радости от работы он попросту не испытывал. Кроме того, еще одним раздражителем с некоторых пор стал возраст – годы словно подгоняли его, тогда как неверно избираемая деятельность цепкой хваткой сдерживала рост и развитие. Каждый день приносил еще и разочарование, ибо он видел, что к 40 годам многие люди давно определились с целью в жизни и успешно реализовали ее.
Скорее всего глобальный внутренний конфликт, цепь личных психологических противоречий и привели Мэя к болезни. Когда у него обнаружили туберкулез, он уже писал докторскую диссертацию, решив стать психотерапевтом, но, по всей видимости, еще не видел завершенности в создаваемой схеме движения на карте жизни. Именно болезнь позволила совершить в короткий период времени тот кардинальный переворот в сознании, который в нормальных условиях не был возможен в течение ряда лет.
Похоже, будущий мыслитель распознал нефизический код своего заболевания. Биографы отмечают, что он был вынужден около двух лет лечиться вдали от шумных городов, от общества своих коллег. Всепоглощающая тишина периферийного санатория может быть и губительной, и пробуждающей – на беспокойного Мэя она подействовала оживляюще. Мысленные беседы с Богом никогда не бывают легкими; они заставляют его задуматься над главным вопросом: стоит ли жить, и если да, то для чего. Если для жизни, то ему следовало примириться с собой, встроить свой отполированный долгими размышлениями образ в общую картину бытия. Если для личности, жаждущей самовыражения и признания, то нужна одна, тщательно выработанная линия, неизменная до конца пути. Мэй такую линию в своем воображении создал, и когда это свершилось, болезнь стала отступать. «Когда я два года был прикован к кровати из-за туберкулеза, еще до того, как появились лекарства от этого заболевания, все мои мысли соединились и оформились в те идеи, которыми я хочу с вами поделиться», – написал Мэй годы спустя.
Сергей Степанов в книге «Век психологии: имена и судьбы» записал о Ролло Мэе следующие слова: «Сознание полной невозможности противостоять тяжелой болезни, страх смерти, томительное ожидание ежемесячного рентгеновского обследования, всякий раз означавшего либо приговор, либо отсрочку, – все это медленно подтачивало волю, усыпляло инстинкт борьбы за существование». Действительно, трудно переоценить воздействие этих двух лет борьбы за жизнь на будущее творчество ученого. Наверняка под руководством медиков он занимался и лечением тела, но тело вряд ли сумело бы преодолеть недуг без изменения образа мышления. На тонком психическом уровне болезнь ему была, можно сказать, необходима – как временной промежуток, выключающий его из шумного социума. Изнуренный мытарствами, он попросту не мог остановиться, чтобы успокоиться, обозреть весь мир и оценить собственное бытие. Оттого и возникла болезнь как ответная реакция организма на неспособность усмирения острой, непреодолимой тоски. Счастье ученого в том, что он сумел рассмотреть за своим кровохарканием психическую проблему – он попросту не мог нормально дышать, «переносить» воздух без оформления своих глубинных желаний. Оказавшись прикованным к койке, он использовал время для максимального сосредоточения на той проблеме, которой занимался прежде и которую считал делом всей своей жизни. Именно там появилась весьма примечательная «теория раненого целителя», во главу которой поставлена «проницательность, которая приходит к нам благодаря собственной борьбе с нашими проблемами и приводит нас к тому, чтобы мы развили эмпатию, креативность и сострадание». Эту мысль Мэя можно по праву считать уникальной, ведь она объясняет не только его собственный путь, но и механизм ряда превращений, которые до того казались необъяснимой мистикой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу