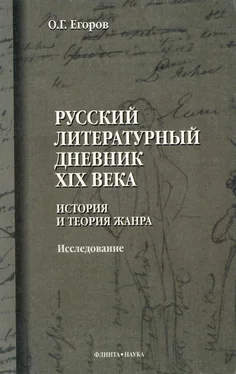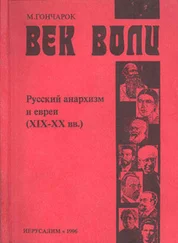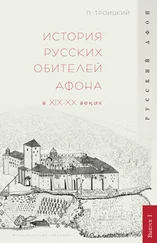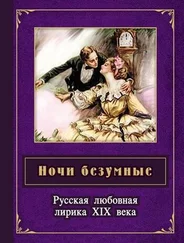б) преобразование жизненных фактов в литературную интригу
В истории дневникового жанра имел место и обратный процесс: сюжетное действие дневника, воспроизводящее житейскую историю, приобретало литературно-драматический характер. Процесс олитературивания обыденных событий совершался под пером автора невольно, без всяких намерений с его стороны. Наиболее типичным является в этом отношении сюжет позднего дневника Н.Г. Чернышевского, озаглавленного автором «Дневник моих отношений с той, которая теперь составляет мое счастье».
Дневник велся Чернышевским параллельно его раннему, юношескому журналу. Он был посвящен взаимоотношениям с О.С. Васильевой в тот период, когда она была невестой будущего писателя. Целью ведения дневника было осмысление характера отношений, собственных человеческих качеств и проникновение в душевный мир возлюбленной. Чернышевский выступает в дневнике как рационалист и аналитик. Вместе с тем организация материала приобретает законченную форму сюжетного действия.
Начинается дневник, как настоящий роман, с экспозиции – сцены на вечере по случаю именин. Описание событий чередуется с информацией субъективного плана: «Прерываю на время рассказ, чтобы описать свои вчерашние ощущения после решения» [328]. Завязкой сюжета служит сцена подготовки к решительному разговору с Ольгой Сократовной. Эпизод объяснения не укладывается в одну запись, и Чернышевский разносит материал по разным дням с пометками: «Продолжаю в 11 часов вечера», «Продолжаю 21 февраля в 7 часов утра перед отправлением к Стефани» и т.д.
Описание разговоров строится как драматическая сцена с ремарками типа «К нам снова подошли», «Она смеялась» [329]и т.п.. Нередко «авторский» текст заключается в скобки. В этих эпизодах Чернышевский анализирует реплики своей невесты. Но рамки дневника и законы жанра не позволяют развернуть сюжет эпически широко. И автор вынужден укрощать свой писательский пыл: «Все наши свидания останутся недописанными, и у меня, наконец, никогда не будет оставаться времени на мои занятия <...> Поэтому я с этого дня стану писать только существенное» [330].
Помимо стенографически подробного описания сцен, Чернышевский детально анализирует прагматический аспект своих взаимоотношений с возлюбленной: «2. Почему я должен иметь невесту?» Такой метод впоследствии будет использован в романе «Что делать?».
Однако рационалистическая установка не мешает введению в рассказ лирических элементов то в виде стихотворных цитат из Шиллера, созвучных настроению автора, то сомнений в искренности намерений невесты («<���Ольга Сократовна> не чувствует ко мне никакой особой привязанности», «<���Она> слишком мало любит меня»). Эти «лирические отступления» оживляют действие, вносят в сюжет художественно-эпическое начало.
Завершается повествование, как в классических семейных романах, сценой обручения, знаменующей развязку действия. А заключительная фраза дневника словно заимствована из повести 1840-х годов: «Я все более и более привязываюсь к ней, и моя любовь становится чище и целомудреннее» [331].
Тенденция к сюжетной организации дневника свидетельствовала не только о новых явлениях в истории жанра. Принадлежность сюжета к области эстетического означала качественные изменения в структуре дневника. Дневник с завершенным сюжетным действием мог восприниматься как произведение искусства. Но, поскольку дневники подобного рода не были изначально ориентированы на публикацию, их от сферы художественно-эстетического отделяла всего одна грань.
Потенциальные возможности дневникового жанра в этой области осознавались писателями XIX в., многие из которых вели дневники. Уже в первой половине столетия жанровая структура дневника широко используется в «большой» литературе. Так была преодолена та единственная грань, которая отделяла литературный дневник от художественной прозы.
Глава седьмая
ОБРАЗ ДНЕВНИКА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ
1. Специфика художественного дневника
Широкое распространение дневника во всех слоях общества, его движение по ступеням жанровой иерархии, наконец, популярность дневникового жанра в писательской среде приводят к тому, что дневник встраивается в художественную прозу.
Это явление имело место еще в эпоху Просвещения. Гетевский «Вертер», написанный в форме дневника, стал одним из центральных произведений эпохи. Активно использовали дневник в своем художественном творчестве и романтики. В эпоху русского классического реализма дневник становится одним из продуктивнейших приемов художественного письма. На протяжении шестидесяти лет (1840 – 1900-е гг.) писатели используют дневниковую форму в различных прозаических жанрах – от повести и романа до циклов очерков, воспоминаний и сатирической хроники.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу