130. Классические ошибки коммуникативного поведения, на которые психотерапевт регулярно указывает своему пациенту (клиенту), касаются именно этого механизма. Психотерапевт просит пациента задуматься над тем, что в тот или иной момент думает, чувствует другой человек, что для него могут значить те или иные слова – странная, казалось бы, просьба, поскольку кажется, что мы и так всегда это делаем.
Кроме того, психотерапевту приходится постоянно подчеркивать, что и сам пациент должен осознавать, что его собственное поведение влияет на ситуацию: то, что он думает, как он реагирует, что он делает, происходит не в пустом пространстве, а что-то особенное значит для других людей и как-то на них влияет. Этот очевидный, казалось бы, факт тоже, как выясняется, отнюдь не так очевиден, как мы привыкли о нем думать.
131. Иными словами, даже если мы теоретически понимаем, что это наше и других людей «внутреннее содержание» имеет значение, в своем фактическом поведении – принимая решения, оценивая ситуацию, формируя суждение, осуществляя коммуникацию, – мы вовсе его не учитываем, удовлетворяясь недостоверными фантазмами собственного, в каком-то смысле неосознанного и автоматизированного производства.
То есть, как правило, мы исходим из того, что кажется нам некой «наличной ситуацией» – из некой картины, некоего представления, из того, как нам эта ситуация видится, представляется, – без учета указанных дополнительных «планов».
Мы думаем, не понимая, что думаем, и мы взаимодействуем с другими, не отдавая себе отчета в том, что они тоже что-то думают, и это «что-то» – не то, что, как нам кажется, они думают.
132. Впрочем, соответствующий навык у большинства из нас точно есть, но он или недостаточно развит, или используется лишь в отдельных, особенных случаях. Зачатки этого навыка – озадачиваться «другим» – появляются, вероятно, не раньше возраста десяти-одиннадцати лет. Наверное, его можно было бы назвать и «theory of mind», хотя точнее, мне кажется, говорить о «реальности Другого».
Под понятие «theory of mind» попадет всякий, кто понимает, что он функционирует в некоем социальном поле, то есть учитывает потенциальные действия других социальных агентов. Однако функционирование в этом поле может быть разным: вы можете понимать, что вокруг вас живые люди – это уже неплохо (по крайней мере, вы не страдаете аутизмом), но вы еще можете понимать и то, что эти – другие – люди переживают и думают то же самое, что и вы, но по-своему, как-то иначе.
Может показаться, что эти определения почти тождественны, но это не так. Разница есть, и она весьма существенна. Попробую ее изъяснить.
133. Когда подросток сталкивается с тем, что его интересы не принимаются родителями в расчет, он испытывает злость и совершенно не интересуется тем, чем руководствуются его родители, например запрещая ему поздно возвращаться домой.
Теоретически он может даже себе это как-то представлять – мол, да, они чего-то боятся, думают себе всякую ерунду и т. д. Но он неспособен войти в положение родителей так, чтобы воспринять их чувства, позицию и мысли как действительный факт реальности .
Для него это – вся их внутренняя мотивация – не реальность, а просто какая-то «блажь», «глупость», «старорежимность» и т. д. Мол, они отстали от жизни, не понимают, что у меня у самого голова на плечах, придумывают себе всякое и т. д.
При этом он вполне, может быть, прав – и про «глупость», и про «старорежимность», – дело не в этом. Дело в том, что он не видит реальности, фактичности этих родительских переживаний. Для него это как бы что-то наигранное, ненастоящее, просто поза. Нет, всё это для него реально, но лишь потому, что с этим приходится иметь дело, но нереально на самом деле.
134. Возможно, впервые подросток по-настоящему сталкивается с этой непреодолимой, неустранимой «внутренней мотивацией другого» только в рамках сексуально-эротических, любовных отношений. Подросток хочет вызывать симпатию у сексуально привлекательных для него персон – это естественно. Однако такая симпатия, как известно, далеко не всегда взаимна.
И даже при наличии взаимности она – эта симпатия – вовсе не всегда имеет то продолжение, на которое подросток тут же и рассчитывает (пусть и не вполне понимая, чего именно он ждет от партнера). Молодой человек хочет, условно говоря, скорой близости, девушка – ухаживания и романтики. В общем, вполне традиционный конфликт двух разных сексуальностей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
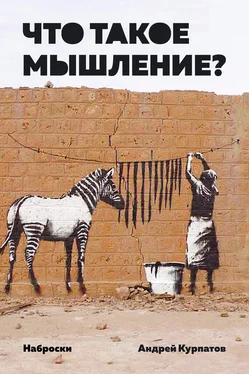






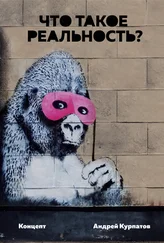

![Андрей Курпатов - Мышление. Системное исследование [litres]](/books/412415/andrej-kurpatov-myshlenie-sistemnoe-issledovanie-thumb.webp)


