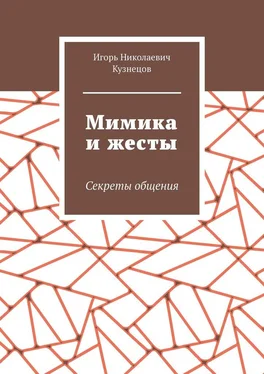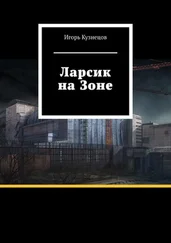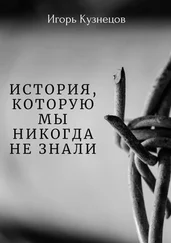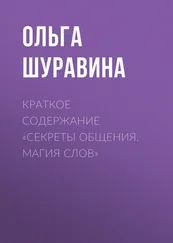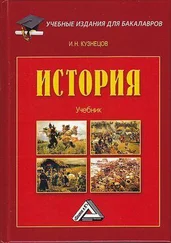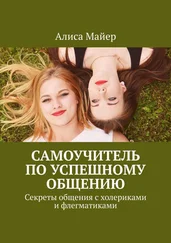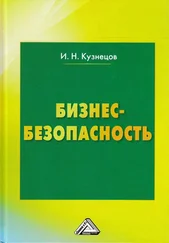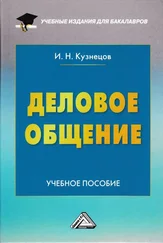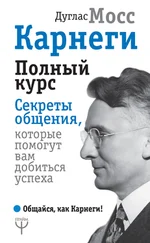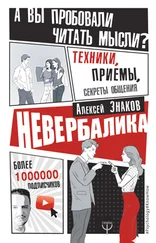Особенно его поразило лицо одного незнакомца, в котором он прочитал, что тот жаден, хитер и беспощаден. Молодой физиогномист был поражен, когда незнакомец с добродушной улыбкой стал любезно приглашать его в дом в качестве почетного гостя.
Противоречивость усвоенного и увиденного не только взволновала молодого человека, но и пробудила в нем сомнения в верности египетской школы физиогномистов. В течение трех дней радушный хозяин изысканно услаждал ученого гостя всевозможными яствами и кальяном.
Однако при расставании лицо хозяина вновь обрело злобное выражение, а счет, неожиданно врученный «почетному гостю», оказался невообразимо высоким. Пришлось отдать все деньги, халат и коня в придачу. Обчищенный до нитки, молодой физиогномист отправился в путь… славя всевышнего и своих учителей за то, что годы обучения в египетской школе не были потрачены даром.
В средние века отдельные взгляды физиогномистов разделяли и в той или иной мере совершенствовали Ибн Сина и ряд ведущих алхимиков, в эпоху Возрождения – Иоанн Дуне Скотт и Леонардо да Винчи.
Начиная с XV века физиогномика обрела большую популярность. Ею серьезно занимались все, кто «по долгу службы» был занят «работой с людьми» – духовные лица, медики, философы, юристы. Значительную популярность приобрело, в частности, лицегадание: определение судьбы человека по чертам лица.
Физиогномика в ту пору была довольно авторитетна. Она к тому времени успела обрасти множеством новых умозаключений, которые по уровню достоверности вполне могли конкурировать с сентенциями Аристотеля.
Так, средневековый монах Альберт Великий считал, что «толстый и долгий нос служит знаком человека, любящего все прекрасное, и не столь умного, сколь он сам о себе думает», а «кто вертит головою во все стороны, тот совершенный дурак, глупец, суетный лживый плут, занятый собою, посредственных способностей, развратного ума, довольно щедрый и находит большое удовольствие вымышлять и утверждать политические новости».
В конце XVIII века такая формальная физиогномика получила развитие в многотомном сочинении цюрихского пастора Иоганна Лафатера, который сначала изучал психологические особенности человека (отчасти пользуясь признаниями прихожан на исповеди), а затем сопоставлял полученные данные с особенностями черт лица.
Накопленные таким образом сведения послужили поводом к тому, что он стал доказывать возможность определения особенностей характера по рельефу лица и строению черепа и претендовать на роль основателя новой науки.
Он писал: «Лица настолько же доступны чтению, насколько это присуще книгам, разница лишь в том, что они прочитываются в короткое время и меньше обманывают нас».
Однако не все разделяли его энтузиазм. Давая оценку учению Лафатера, Георг Лихтенберг отмечал, что «эта теория представляет в психологии то же, что и весьма известная теория в физике, объясняющая свет северного сияния блеском чешуи селедок… Можно постараться нарисовать себе ночного сторожа по голосу. При этом часто ошибешься настолько, что трудно удержаться от смеха, когда обнаружишь свое заблуждение. А разве физиогномика нечто иное?»
Произведя фурор оригинальностью своего подхода, Лафатер допустил ряд ошибок, немыслимых для серьезного исследователя. Так, предмет его наблюдений составляли не все черты лица в их взаимодействии, а в основном его нижняя часть и так называемый лицевой профиль. Систематического метода выведено не было, объективные закономерности заменялись субъективным мнением автора, и в итоге труды Лафатера вызвали серьезную критику.
В изрядной мере разделял взгляды Лафатера австрийский врач Франц Иозеф Галль, создавший собственную интересную теорию. Еще мальчиком он обратил внимание, что те из его школьных товарищей, которых отличают большие и выпуклые глаза, помимо этой очевидной особенности обладают еще и очень хорошей памятью на слова. Впоследствии, обдумывая это наблюдение, Галль пришел к заключению, что за этот вид памяти ответствен участок мозга, расположенный позади глазных орбит.
Различая память вещей, мест, названий, чисел, словесную и грамматическую память, Галль расположил выделенные им формы памяти в отдельных «органах» мозга. К числу способностей, локализованных в мозговой коре, он относил также смелость, честолюбие, общительность, любовь к родителям, инстинкт продолжения рода и т. п.
Галль и его ученики создали подробнейшие карты мозга, где указали локализацию моральных и интеллектуальных качеств человека. Поскольку всем: умом, экспансивностью, нежностью и даже любовью – заведуют строго определенные участки мозга, то их увеличение, свидетельствующее о выраженности данного качества, сопровождается появлением выпуклости в соответствующем месте на черепе.
Читать дальше