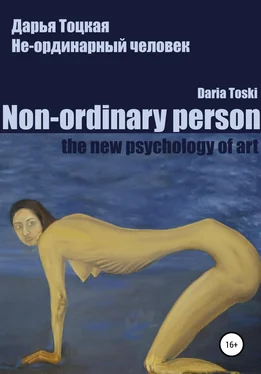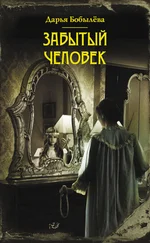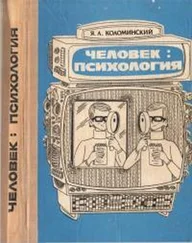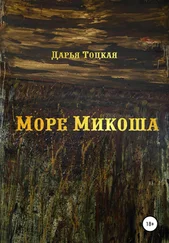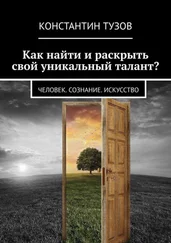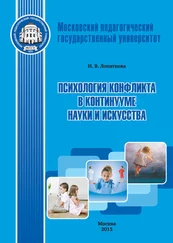Вторая мировая война принесла глубокие изменения в человеческом мировосприятии, основанные на потрясении. Сontemporary art, современное искусство, начало свое формирование в конце 50-х годов в США и Европе без фактического участия СССР в те годы. Впрочем, отношение в разных странах к современному искусству не идентично. Желание современного искусства задокументировать любое состояние психики, пусть даже «слабое», «не цельное», «депрессивное» воспринималось многими, выросшими на советских идеалах, как противоположное их сформировавшимся эстетическим устоям.
Современное искусство зачастую оперирует искаженными, «не цельными» образами, которые исследователи Кауфман и Вол в 1992 году назвали характерными для творчества детей, перенесших насилие: «Результаты исследования свидетельствуют о более частом наличии при изображении человеческих фигур таких признаков, как «обрезанные» конечности, заштрихованный или отсутствующий рот и глаза, неровная поза, заштрихованные или оторванные гениталии и плохая интегрированность частей тела». То, что было намечено в «Гернике» Пикассо в 1937 году, сохранится в искусстве и спустя полвека: достаточно привести в пример работы 80-х ХХ века Арнольфа Райнера.
Реалистичное изображение насилия способно нанести зрителю психологическую травму, к чему творец, обладающий эмпатией, конечно же, не может стремиться. Таким образом, нужны были иные формы и иные средства выразительности, чтобы всколыхнуть зрителя, заставить его задуматься и принять участие в обсуждении тем, которые часто представляются социуму «неудобными»: война, насилие, голод, социальное неравенство и несвобода, дискриминация сексуальных меньшинств, объективизация человеческого тела и др. Неспроста Элридж в 2000 году говорит о современном искусстве как об инициаторе обсуждения «запретных тем» в социуме.
Современное искусство стремится взять на себя роль альтернативной коммуникации. Избегая прямой иллюстративности, оно все так же остается инструментом познания для зрителя. Только теперь зрителю вместо созерцания, например, травмирующих сцен войны, голода и насилия предложено испытать некоторые чувства и эмоции, которые бы соответствовали заявленным ситуациям и понятиям: чувство утраты безопасности, внутренней диссоциации, горя и др. Средства художественной выразительности, которые приводили бы к подобному эмоциональному отклику, должны были быть кардинально иными – на уровне первооснов формы. Теперь эмоцию горя должен сообщать не образ девочки с убитым братом на руках, эту эмоцию должна передавать сама линия. Это требовалось сделать иным способом, иначе бы искусству пришлось соревноваться с любым документальным фильмом о войне – и проиграть ему, а искусство не терпит поражения.
Логично, что даже в этом случае испытываемые при созерцании эмоции могут оказаться травмирующими, деструктивными, вот почему часть зрителей считает современное искусство источником тяжелых, нежелательных эмоциональных переживаний и стремится избегать его. Однако, это именно тот путь, которым современное искусство стремится воззвать к эмпатии у зрителя и вызвать у него чувство сопереживания, заставить измениться самому.
Одним из гениев, предвосхитивших изыскания современного искусства, стал Пабло Пикассо: речь даже не о его формалистских экспериментах с кубизмом, а о таких минималистичных набросках, как лист 1903 года «Le berger». Сюжет отходит на второй план, законченность формы тоже под вопросом, а средства выразительности сосредоточены на уровне линии. Современное искусство подхватило эту нарочито спонтанную, намеренно не продуманную, нервную и гипнотизирующую сосредоточенную на самой себе линию, что мы и видим, в частности, в работах рубежа 80-х и 90-х ХХ века от Jo Baer.
Минималистичные композиции Annegret Soltau 70-х ХХ века существуют на стыке рукотворного и природного, двумерного и трехмерного, в составе ее работ паучья паутина, замаскированная под ту самую «нервную линию». Современное искусство ломает границы между двумерным и трехмерным, между статичным и динамичным, пропорцией и диспропорцией. Интересно, что с точки зрения психологии стремление смешать несколько материалов, по Sagar, говорит о стремлении сохранить и доверить зрителю некоторую «тайну», заключенную, конечно, в сфере эмоциональных переживаний, – в изображении которых существенно продвигается современное искусство, отыскивая все новые и новые средства выразительности.
Читать дальше