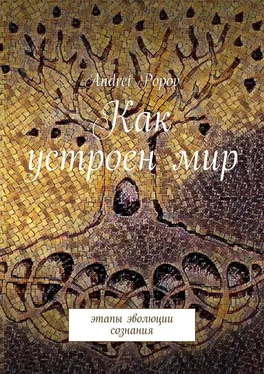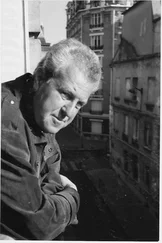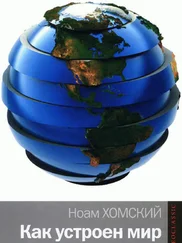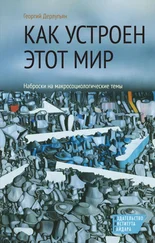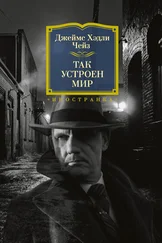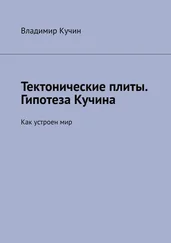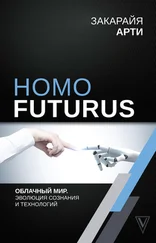Второе откровение о мире заключалось в том, что сны так же реальны, как и явь, оба этих явления проникают друг в друга, и обе эти реальности друг на друга влияют. Это я понял уже сам, хотя взрослые и отговаривали от такой идеи. До сих пор мне не ясно, как это работает, но серьёзное отношение некоторых авторитетных учёных к феномену сновидения меня очень радует.
Третьим важным открытием было то, что у всего есть причины и следствия. Это вообще плохо укладывается в голове, потому что причин может быть много, и они могут быть неочевидны. Так что все об этом как будто знают, но никто в это до конца не верит. И я тоже, признаться, часто стараюсь не замечать этот вопиющий факт. А почему? Потому что причинно-следственные связи бывают короткими и ясными, а бывают длинными и сложными. Простые, короткие и надёжные – это законы механики: всемирное тяготение, трение, скольжение, электричество и так далее. Опыт быстро научил меня относиться к ним с уважением (а заодно к горячему, острому, злым собакам и жестоким людям). Но вот с не столь очевидными законами было сложнее.
Почему всё так, как есть? Почему одни болеют, а другие здоровы? Почему одни счастливы, а другие нет? Почему существует зло и злые люди? Почему есть голод, война, террор?
Нет простых и однозначных ответов на такие непростые вопросы, но, находясь в поиске, я научился несколько больше понимать, как такое возможно, и у меня сложилось собственное представление о том, как устроен мир.
Но вернёмся к детству. Итак, первым обоснованием неявных взаимодействий, предложенным взрослыми, была мораль: веди себя хорошо, и тебе будет хорошо, потому что если все будут вести себя правильно, то зло исчезнет само собой. Уже в пять лет я понимал, что это не работает. А взрослые, похоже, не понимали, и мне пришлось изображать принятие факта, что мир устроен именно так.
Что остаётся ребёнку, когда он видит, что у взрослых нет правильного ответа на простой вопрос? Согласиться с наиболее приемлемым, с тем, который хоть как-то отвечает сложившейся жизненной ситуации, и жить дальше.
Не буду утомлять тебя, дорогой читатель, воспоминаниями о своих ранних поисках истины в источниках разной степени достоверности, перейду к отрочеству. В этот период я столкнулся с религией, и она дала ответов куда больше, чем простые «законы хорошего поведения», в которые никто не верил. Религия допускала всё, но главное – она хоть как-то объясняла природу невидимого мира, в который уходили корни сложных причинно-следственных связей. Единственное, чего не могла объяснить религия: как это работает. Тут всё становилось зыбко и противоречиво, что-то между магией и слепой игрой потусторонних сил. Благие боги принимались кого-то мучить, добро никак не могло победить в борьбе со злом, а источники страданий терялись где-то в глубинах сансары. В общем, все ответы придут только после просветления, а пока – тьма неведения, извините. И всё бы ничего, да только жить-то надо сейчас, не дожидаясь просветления. А как? Религия – это ещё менее точно, чем мораль, и гораздо более субъективно. Пришлось искать дальше…
Шли годы, я взрослел, интересы мои расширялись. На каком-то этапе я познакомился с философией и пришёл в восторг, решив, что встал на верный путь. Сначала всё складывалось отлично: мудрецы веками подбирались к истине и казалось, что вот-вот придёт ответ на все вопросы, но двадцатый век подсунул неприятную каверзу в виде феноменологии Гуссерля. Он понял, что философия себя изжила и теперь это больше не наука, а болтовня о словах и терминах. Ты удивлён? Ну вот смотри: кто знает, что стоит за словом «любовь», кроме букв или звуков? Для меня это особое переживание, но что это для тебя, и где гарантия, что мы оба переживаем одно и то же, обозначаемое этим словом? Гарантии нет, следовательно, и рассуждения бессмысленны, потому что каждый в одиночку сталкивается с феноменом личного опыта, который невыразим. Значит любое изучение и описание моего внутреннего опыта всегда субъективно, и твоё субъективно. И вот представь, что мы начнём спорить о том, что такое любовь, хотя каждый чувствует её по-своему. И как только философы поняли, что не может быть одинакового понимания основных понятий, то и рассуждения о них потеряли смысл. Философия – отличная гимнастика для ума, логика дисциплинирует мышление, но ответов я там, увы, не нашёл.
Затем в круг моих интересов попала психология. Учёные-психологи проникли в самую сокровенную область человека – в его мозг. Оказалось, что мы не более чем сложные механизмы, управляемые химическими процессами в нервной системе и потоками информации, наподобие компьютерных программ. Если не вдаваться в детали, то всё прекрасно описано – можно научиться понимать себя и других, свои чувства, мысли, мотивы. Много лет я посвятил изучению самого себя, надеясь, что наука поможет стать счастливым, многое про себя узнал, понял определённые правила и научился их использовать, но вопрос смысла – главный из всех – не постиг. Да, я что-то переживаю, что-то понимаю, но что с этим делать и для чего? Просто более эффективно есть и спать? Отчего-то мне всегда казалось, что это лишь средства поддержания жизни, но не её цель.
Читать дальше