Сама эта ось и есть в каком-то смысле наш фундаментальный мировоззренческий нарратив, наше представление о себе, наша «личная история» нашего личностного «я». Причем сам этот нарратив не несет в себе никакого определенного содержания – это именно временная ось всего нашего внутреннего психического пространства, которая может производить множество наших «личных историй», представляющих в разных ситуациях и контекстах условную фигуру нашего личностного «я». То есть эта ось и само наше личностное «я» – это не нечто однажды и навсегда сделанное, а лишь способ создания соответствующих интеллектуальных объектов ad hoc (по тому или иному случаю).
Конечно, и дошкольник рассказывает некие истории о самом себе, но это истории вне времени, без начала и конца; это пока даже не нарративы, а просто средство коммуникации с «другими людьми». С появлением же в нашем внутреннем психическом пространстве условного вектора времени (то есть с обретением способности строить более-менее долгосрочные планы на будущее и как-то анализировать свое прошлое) мы в некотором смысле начинаем рассказывать эти истории самим себе. И в этом особом рассказывании и состоит, собственно, специфичность той самореференции, которая лежит в основе наших новых отношений с «Другим» (теперь уже с большой буквы), а также обуславливает структурное становление метрики нашего нарождающегося «пространства мышления».
Именно благодаря этой самореферентации, как мне представляется, плоскость нашего мышления и получает что-то вроде дополнительного измерения; точнее – мы сами, благодаря этой самореференции, и становимся чем-то вроде дополнительного измерения собственного «пространства мышления». Происходит преобразование изначальной, подвижной метрики внутреннего психического пространства, обусловленной нашей социальностью, в структурную метрику «пространства мышления», обуславливающую теперь наше разумное мышление. То есть социальная метрика (метрика, сформированная специальными интеллектуальными объектами – «другими людьми»), ложится в основу (в каком-то смысле – распространяется, воспроизводит способ) работы нашей интеллектуальной функции с нашими интеллектуальными объектами, которые с «другими людьми» уже напрямую и не связаны.
Мир интеллектуальной функции не может сопротивляться нашему произволу сам по себе (и поведение ребенка демонстрирует это со всей определенностью), а потому единственный способ, каким он мог понудить нас принять в расчет некие правила, были «другие люди» (причем именно значимые для нас «другие люди»), действующие на наши представления через сам этот мир интеллектуальной функции, который мы с ними некоторым образом разделяем. Так мы интроецировали в себя этих «других людей», которые «обжились» в нас – в нашем внутреннем психическом пространстве, заполнив собой область «дефолт-системы» нашего мозга. Так они стали, по существу, той нашей «внутренней средой», которая своими единичными элементами толкала нас к той или иной активности подобно тому, как атомы газа или жидкости толкают броуновское тело.
Выгода, которую каждый из нас извлек из этой своеобразной оккупации нашего внутреннего психического пространства «другими людьми», – навык конструирования отношений с элементами (единичные интеллектуальные объекты) сложной системы, а также навык выявления интеллектуальных объектов, которые являются отношениями этих интеллектуальных объектов друг с другом (сложные интеллектуальные объекты). А появление дополнительного измерения – своеобразной личностно-временной оси – сформировало в нас способность к структурной организации если не всего нашего внутреннего психического пространства, то, по крайней мере, той его части, которая принципиально относится к «пространству мышления».
Конкретизируем еще раз это соображение: навыки работы с интеллектуальными объектами возникали у нас в рамках непосредственных отношений с «другими людьми», но поскольку сами эти «другие люди» являлись для нас интеллектуальными объектами, эти навыки работы с интеллектуальными объектами могли быть перенесены нами и на работу с другими интеллектуальными объектами.
Только в старшей школе подростки могут справиться с задачами, которые требуют, как об этом говорят, абстрактного мышления – понять, что такое высшая математика, современная физика, эволюционная теория, сложные литературные произведения, исторический контекст. И это не простой переход количества знаний в некое их новое качество, это результат их собственных – этих подростков – внутренних изменений. В основе этих их новых способностей лежат преобразованные структуры социальных отношений: социальная игра со специальными интеллектуальными объектами («другими людьми») учит подростка оперировать интеллектуальными объектами большой сложности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
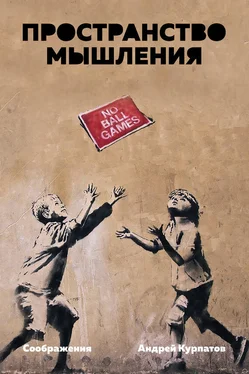







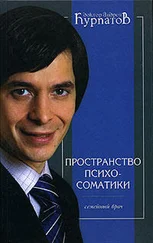
![Андрей Курпатов - Мышление. Системное исследование [litres]](/books/412415/andrej-kurpatov-myshlenie-sistemnoe-issledovanie-thumb.webp)


