Структура социального мира ребенка, таким образом, сильно напоминает групповое поведение любого другого примата. Понятно, что животное выстраивает отношения с другими членами своей группы так, чтобы они гарантировали ему максимальный комфорт и безопасность. Одни особи представляют для него относительную угрозу, другие – напротив, обеспечивают ему безопасность, и активность их всех нужно постоянно отслеживать.
Кроме того, каждое животное в соответствии со своим положением в социальной иерархии группы должно следовать определенным правилам – порядок доступа к пище, месторасположение на стоянке и по ходу движения, референтные отношения, груминг, сексуальное поведение и т. д. и т. п. Для животного это вовсе не какие-то гипотетические «социальные отношения», не как-то мыслимые им отношения, а фактические, настоящие, реальные – происходящие здесь и сейчас. Да, это, конечно, не то же самое, что спасаться бегством при появлении хищника (то есть не поведение, связанное с решением какой-то конкретной задачи), но важность этого поведения нельзя недооценивать. Это чрезвычайно значимая часть жизни любого стайного животного, требующая от него постоянной включенности, а вовсе не наши «выяснения отношений», которые мы осуществляем внутри собственной головы, когда нам по большому счету нечем заняться.
Таким образом, если мы говорим о нейрофизиологических структурах, то так называемая дефолт-система мозга человека в случае других стайных приматов никакого «дефолта» не предполагает и предполагать не может. Напротив, система мозга, отвечающая за взаимодействие с другими членами группы, должна находиться в состоянии постоянной активности, поскольку она в реальном же времени обеспечивает животному его фактическое выживание. Это человек и ребенок человека могут позволить себе роскошь думать о других людях, когда их нет рядом, а вот животное всегда рядом с другими животными. Оно не может «уйти в свою комнату», «запереться в туалете» или спрятаться под столом в своем воображаемом «царстве» или «шалаше», оно должно перманентно контролировать состояние своих отношений с другими членами стаи.
Причем соответствующие структуры мозга решают, вероятно, сразу несколько задач. С одной стороны, всякая данная особь связана какими-то определенными отношениями с каждым членом своей группы (грубо говоря, располагается где-то во внутренней иерархии стаи), с другой стороны, она – эта конкретная особь – должна также отслеживать и то, в каких отношениях друг с другом состоят другие члены ее группы (понятно, что всякая социальная группа предполагает и наличие неких подгрупп – некие социальные общности внутри себя). То есть каждый член группы, можно сказать, что-то значит для данной особи сам по себе, но также для нее имеет значение и то, в каких отношениях другие члены группы находятся друг с другом. В противном случае поведение данной особи или не приведет к желаемым результатам, или может даже спровоцировать опасный для нее конфликт.
Иными словами, всякое животное несет в себе (содержит в своем внутреннем психическом пространстве) интеллектуальные объекты для каждого члена своей группы, но оно точно так же изготавливает в своем внутреннем психическом пространстве и куда более сложные интеллектуальные объекты, обусловленные отношениями разных членов группы друг к другу, причем с имплицитным включением в эти образования и дополнительного элемента – своей собственной заинтересованности, то есть того, что эти отношения могут значить для данного животного.
Впрочем, точно так же ведет себя и ребенок человека: для него существуют другие люди как отдельные интеллектуальные объекты – мама, папа, воспитательница в детском саду, дворник и т. д. (причем каждый со своим четким функционалом, обусловленным потребностями ребенка) [51], но, кроме того, он формирует в себе и определенные взаимосвязи между этими интеллектуальными объектами (то есть некие представления об отношениях между разными людьми).
Ребенка живо интересуют отношения между родителями, между его родителями и другими детьми (включая братьев и сестер, разумеется), отношения мамы к бабушке, бабушки к дедушке, учителя к другому ученику. Здесь неизменно обнаруживается ревность, зависть, чувство превосходства или, например, специфическое отношение к «отличнику», «двоечнику» или «белой вороне» – то есть некие производные социальных отношений, которые для данного ребенка вторичны (он их считывает, глядя на отношения других людей, и лишь как бы к ним присоединяется).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
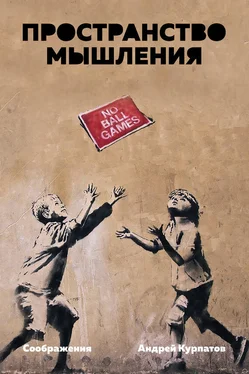







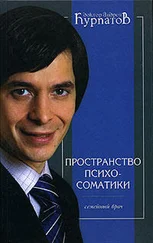
![Андрей Курпатов - Мышление. Системное исследование [litres]](/books/412415/andrej-kurpatov-myshlenie-sistemnoe-issledovanie-thumb.webp)


